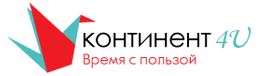–Ш–У–Ю–†–ђ –Ф–Ц–Х–†–†–Ш –Ъ–£–†–Р–°

–Ъ–Ю–Ь–Х–Ф–Ш–ѓ –Ф–Х–Ы–ђ –Р–†–Ґ–Х
–†–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј
–ѓ –±–Њ–ї—М—И–µ –љ–µ –Љ–Њ–≥—Г –њ–Є—В—М, –Є –і–Њ–ї–ґ–µ–љ –±—Л—В—М –њ—А–µ–і–µ–ї—М–љ–Њ –∞–Ї–Ї—Г—А–∞—В–љ—Л–Љ –≤ –µ–і–µ.
–Ґ–∞–Ї–∞—П –Љ–Њ—П –љ–µ—Б—Е–Њ–ґ–µ—Б—В—М —Б –Њ—Б—В–∞–ї—М–љ—Л–Љ–Є –ї—О–і—М–Љ–Є –і–µ–ї–∞–µ—В –Љ–Њ–Є –≤—Л–љ—Г–ґ–і–µ–љ–љ—Л–µ –Ј–∞—Б—В–Њ–ї—М—П —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ –±–µ—Б—Б–Љ—Л—Б–ї–µ–љ–љ—Л–Љ–Є. –Ч–∞—З–µ–Љ –Њ–љ–Є –Љ–µ–љ—П –≤—Б–µ–≥–і–∞ –њ—А–Є–≥–ї–∞—И–∞—О—В? –Ч–∞—З–µ–Љ —П –љ–µ —Г–Љ–µ—О –Њ—В–Ї–∞–Ј–∞—В—М—Б—П?
–Т–Њ—В —П —Б–Є–ґ—Г –Ј–і–µ—Б—М, –Є –і–∞–ґ–µ –љ–µ –Ј–љ–∞—О –Є–Љ—С–љ –±–Њ–ї—М—И–Є–љ—Б—В–≤–∞ —Б–Є–і—П—Й–Є—Е —Б–Њ –Љ–љ–Њ–є –Ј–∞ —Б—В–Њ–ї–Њ–Љ –ї—О–і–µ–є.
–Э–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, –Ї–∞–Ї –Ј–Њ–≤—Г—В —Н—В–Њ–≥–Њ, —Б –±–Њ—А–і–Њ–≤–Њ–є –±—Л—З—М–µ–є —И–µ–µ–є? –Х–≥–Њ –Ї—А–∞—Б–љ–Њ–µ –ї–Є—Ж–Њ вАФ —Н—В–Њ —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В –љ–µ—Г–і–∞—З–љ–Њ–≥–Њ –Ј–∞–≥–∞—А–∞ –Є–ї–Є —Б–Є–Љ–њ—В–Њ–Љ –Ї–∞–Ї–Њ–є-—В–Њ –±–Њ–ї–µ–Ј–љ–Є? –Х–≥–Њ —В–Њ–ї—Б—В—Л–µ –Ї–Њ—А–Њ—В–Ї–Є–µ –њ–∞–ї—М—Ж—Л, —А–∞–Ј–ї–∞–Љ—Л–≤–∞—О—Й–Є–µ —Е–ї–µ–± вАФ –Њ–љ–Є –≤—Л–Ј—Л–≤–∞—О—В —Г –Љ–µ–љ—П –±–µ—Б–Ї–Њ–љ—В—А–Њ–ї—М–љ—Л–є –њ—А–Є—Б—В—Г–њ –±—А–µ–Ј–≥–ї–Є–≤–Њ—Б—В–Є.
–ѓ –≤–Є–ґ—Г: –Њ–љ —Б–∞–Љ–Њ—Г–≤–µ—А–µ–љ –Є –і–Њ–≤–Њ–ї–µ–љ —Б–Њ–±–Њ–є, –Ї–∞–Ї –ї–µ—Б–љ–Њ–є –Є–љ–і—О–Ї. –Х–≥–Њ –Љ–Њ–ї–Њ–ґ–∞–≤–∞—П —Б–њ—Г—В–љ–Є—Ж–∞ —Б —Г–і–Є–≤–ї—С–љ–љ—Л–Љ–Є –≥–ї–∞–Ј–∞–Љ–Є –Ъ–Њ–ї–Њ–Љ–±–Є–љ—Л —Г—Б–ї—Г–ґ–ї–Є–≤–∞ –Є –і–∞–ґ–µ –љ–µ–ї–µ–њ–∞ –≤ —Б–≤–Њ–µ–є –њ–Њ—З—В–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–є —А–∞—Б—В–Њ—А–Њ–њ–љ–Њ—Б—В–Є: –і–Њ —З–µ–≥–Њ –ґ–µ –Ј–∞–±–Њ—В–ї–Є–≤–Њ –Њ–љ–∞ –њ–Њ–і–Ї–ї–∞–і—Л–≤–∞–µ—В –µ–Љ—Г –≤ —В–∞—А–µ–ї–Ї—Г –ї–Є—Б—В—М—П –Ї—Г–і—А—П–≤–Њ–≥–Њ —Б–∞–ї–∞—В–∞! –Ф–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ, —Н—В–∞ –њ–∞—А–∞ вАФ –Ї–∞–Ї –Ь–∞–≤—А –Є –Ъ–Њ–ї–Њ–Љ–±–Є–љ–∞ вАФ –≤–µ—З–љ—Л–µ —В—А—П–њ–Є—З–љ—Л–µ –Ї—Г–Ї–ї—Л Commedia dell'arte. –Ш —П –≥–Њ—В–Њ–≤ –Ј–∞–Ї–ї—О—З–Є—В—М –њ–∞—А–Є, —З—В–Њ –≥–і–µ-—В–Њ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г–µ—В –љ–µ–Є–Ј–±–µ–ґ–љ—Л–є –≤ —В–∞–Ї–Є—Е —Б–ї—Г—З–∞—П—Е –Я–µ—В—А—Г—И–Ї–∞.
–Р –њ—А—П–Љ–Њ –љ–∞–њ—А–Њ—В–Є–≤ –Љ–µ–љ—П —Б–Є–і–Є—В –Ј–∞–њ–Є—Б–љ–Њ–є —И—Г—В–љ–Є–Ї. –ѓ –Ј–љ–∞—О –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –Њ–љ –њ–Њ–і–±–Є—А–∞–µ—В —Б–≤–Њ–Є —И—Г—В–Ї–Є –Ј–∞—А–∞–љ–µ–µ –Є –і–∞–ґ–µ –њ—А–µ–і–≤–∞—А–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ —А–∞–Ј—Л–≥—А—Л–≤–∞–µ—В –Є—Е —Б –ґ–µ–љ–Њ–є, —А–µ–њ–µ—В–Є—А—Г—П –і–Њ–Љ–∞. –Ю–љ –Љ–µ—В–Њ–і–Є—З–љ–Њ –≤—Л–±–Є—А–∞–µ—В —И—Г—В–Ї–Є, —А–∞—Б–Ї–ї–∞–і—Л–≤–∞–µ—В –Є—Е, –≥–Њ—В–Њ–≤–Є—В—Б—П –±—Л—В—М –≤–µ—Б—С–ї—Л–Љ. –Ю–±—Л—З–љ–Њ, –≤—Б—С –Ј–∞–і—Г–Љ–∞–љ–Њ —В–∞–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ: –Њ–љ–∞ –њ–Њ–і–±—А–∞—Б—Л–≤–∞–µ—В –µ–Љ—Г —Д—А–∞–Ј—Г, –∞ –Њ–љ –Њ—В–≤–µ—З–∞–µ—В –Ї–∞–Ї –±—Л —Б—Е–Њ–і—Г вАФ –±—Г–і—В–Њ –Њ—Б—В—А–Њ—Г–Љ–љ—Л–є –Њ—В–≤–µ—В –њ—А–Є—И—С–ї –Ї –љ–µ–Љ—Г –њ—А—П–Љ–Њ —В–µ–њ–µ—А—М.
–Я–Њ-–Љ–Њ–µ–Љ—Г, –Њ–љ –≥–Њ—В–Њ–≤ –Ї –≤—Л—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є—О. –°–µ–є—З–∞—Б –Њ–љ –њ—А–Њ–ґ—Г—С—В –Њ–≥—Г—А–µ—Ж –Є –љ–∞—З–љ—С—В.
вАФ –Т—З–µ—А–∞ —Г–Ј–љ–∞–ї –Њ–і–љ—Г –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–љ—Г—О –≤–µ—Й—М –Є, —З–µ—Б—В–љ–Њ –≥–Њ–≤–Њ—А—П, –љ–µ –Љ–Њ–≥—Г –њ–Њ–≤–µ—А–Є—В—М, —З—В–Њ —Н—В–Њ –њ—А–∞–≤–і–∞.
–Т–Њ—В. –Э–∞—З–∞–ї–Њ—Б—М.
–Ь—Г–ґ—З–Є–љ–∞ —Г–ї—Л–±–∞–µ—В—Б—П, –њ—А–µ–і–≤–Ї—Г—И–∞—П —А–µ–∞–Ї—Ж–Є—О. –®—Г—В–Ї–∞ —Г–ґ–µ –љ–∞ –њ–Њ–і—Е–Њ–і–µ. –Э–µ—В, –Њ–љ –љ–µ –≤—Л–њ–∞–ї–Є—В –µ—С –≤—Б—О –≤ –Њ–і–љ–Њ–Љ –±—Л—Б—В—А–Њ–Љ –≤—Б–њ–ї–µ—Б–Ї–µ (quickie). –Я—А–Њ—Д–µ—Б—Б–Є–Њ–љ–∞–ї, –Њ–љ –Ј–љ–∞–µ—В, –Ї–∞–Ї —А–∞—Б—В—П–≥–Є–≤–∞—В—М —Г–і–Њ–≤–Њ–ї—М—Б—В–≤–Є–µ, –љ–∞—Б–ї–∞–ґ–і–∞—П—Б—М –љ–µ—В–µ—А–њ–µ–љ–Є–µ–Љ –ґ–µ–љ—Й–Є–љ.
–Ю–љ –Ј–∞–Љ–Њ–ї–Ї–∞–µ—В. –°–ї–µ–≥–Ї–∞ –њ—А–Є—Й—Г—А—П—Б—М, –Њ–љ –Њ–≥–ї—П–і—Л–≤–∞–µ—В –Ј–∞–Є–љ—В–µ—А–µ—Б–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–µ –ї–Є—Ж–∞. –Я–Њ–Є–≥—А–∞–≤ –≥–ї–∞–Ј–∞–Љ–Є –µ—Й—С –њ–∞—А—Г —Б–µ–Ї—Г–љ–і, –Њ–љ –Њ—Б—В–∞–љ–∞–≤–ї–Є–≤–∞–µ—В —Б–≤–Њ–є –љ–∞—Б–Љ–µ—И–ї–Є–≤—Л–є –≤–Ј–≥–ї—П–і –љ–∞ –Љ–љ–µ –Є, —В–Ї–љ—Г–≤ –≤ –Љ–Њ—С–Љ –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–Є –њ—Г—Б—В–Њ–є –≤–Є–ї–Ї–Њ–є, –≤–µ—Б–µ–ї–Њ –≤–Њ–њ—А–Њ—И–∞–µ—В:
вАФ –Ґ—Л –≤–µ–і—М –Є–Ј –Я–Є—В–µ—А–∞, —В–∞–Ї –Є–ї–Є –љ–µ —В–∞–Ї?
¬Ђ–Ґ–∞–Ї –Є–ї–Є –љ–µ —В–∞–Ї?¬ї –≤—Б–µ–≥–і–∞ –і–Њ–ї–і–Њ–љ–Є–ї –і—Г—А–Ї–Њ–≤–∞—В—Л–є –њ–Њ–і–њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤–љ–Є–Ї –љ–∞ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–є –Ї–∞—Д–µ–і—А–µ –Љ–Њ–µ–є —О–љ–Њ—Б—В–Є, –Ј–∞–і–∞–≤–∞—П –≤–Њ–њ—А–Њ—Б.
–°–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ —Б —В–µ—Е –њ–Њ—А –њ—А–Њ—И–ї–Њ –ї–µ—В? –Ґ–Є–Ї-—В–∞–Ї, —В–Є–Ї-—В–∞–Ї, —В–Є–Ї-—В–∞–ЇвА¶
¬Ђ–Ґ–∞–Ї –Є–ї–Є –љ–µ —В–∞–Ї?¬ї вАФ –≤–Њ—В –≤ —З—С–Љ –≤–Њ–њ—А–Њ—Б. –Ч–∞–±–∞–≤–љ–∞—П —Д–Њ—А–Љ–∞ –≤—Л—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П –Љ—Л—Б–ї–µ–є. –≠—В–∞–Ї–∞—П –њ—А–Њ—Б—В–Њ–љ–∞—А–Њ–і–љ–∞—П –њ–Њ–і–Љ–µ–љ–∞ —Б–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ ¬Ђ–љ–µ –њ—А–∞–≤–і–∞ –ї–Є?¬ї. –Ш —Б–ї—Г—И–∞—В–µ–ї—М –≤—Л–љ—Г–ґ–і–µ–љ —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–Є—В—М—Б—П —Б –≥–Њ–≤–Њ—А—П—Й–Є–Љ вАФ –Є–ї–Є –Њ—Б–њ–Њ—А–Є—В—М –µ–≥–Њ. –°–ї—Г—И–∞—В–µ–ї—О –Њ—В–Ї–∞–Ј–∞–љ–Њ –≤ –њ–∞—Б—Б–Є–≤–љ–Њ–Љ –≤–Њ—Б–њ—А–Є—П—В–Є–Є, –µ–≥–Њ —Е–Њ—В—П—В –≤–Є–і–µ—В—М –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ —Б–Њ–±–µ—Б–µ–і–љ–Є–Ї–Њ–Љ. –Ф–µ–≤–∞—В—М—Б—П –љ–µ–Ї—Г–і–∞. –Ґ—Л –Ј–∞–ґ–∞—В –≤ —Г–≥–Њ–ї, –Є –≤—Б–µ –≤–Ј–≥–ї—П–і—Л —Г—Б—В—А–µ–Љ–ї–µ–љ—Л –љ–∞ —В–µ–±—П.
вАФ –Ґ–∞–Ї...
вАФ –Р–≥–∞! вАФ –њ–Њ–±–µ–і–љ–Њ –≤—Б–Ї–Є–љ—Г–≤ –њ—Г—Б—В—Г—О –≤–Є–ї–Ї—Г, —И—Г—В–љ–Є–Ї –њ—А–Є—Й—Г—А–Є–≤–∞–µ—В—Б—П –Є –≥—А–Њ–Љ—З–µ, —З–µ–Љ —Е–Њ—В–µ–ї–Њ—Б—М –±—Л, –њ–Њ—З—В–Є –≤–Ј–≤–Є–Ј–≥–Є–≤–∞–µ—В. вАФ –Т–Њ—В –Ї—В–Њ –љ–∞–Љ —Б–Љ–Њ–ґ–µ—В –њ–Њ–Љ–Њ—З—М –≤ —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–Є –Ш—Б—В–Є–љ—Л! (–Њ–љ —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ —В–Њ—З–љ–Њ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В —Н—В–Њ —Б–ї–Њ–≤–Њ —Б –±–Њ–ї—М—И–Њ–є –±—Г–Ї–≤—Л.)
–°—В—А–∞–љ–љ–Њ. –Ь—Л —Б –љ–Є–Љ, –≤—А–Њ–і–µ –±—Л, –љ–Є—З–µ–≥–Њ –љ–µ —А–µ–њ–µ—В–Є—А–Њ–≤–∞–ї–Є. –Я–Њ—Б–Љ–Њ—В—А–Є–Љ, —З—В–Њ –±—Г–і–µ—В –і–∞–ї—М—И–µ.
вАФ –Т–Њ—В —Б–Ї–∞–ґ–Є –Љ–љ–µ, вАФ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ—А–∞–≤–і—Г —Б–Ї–∞–ґ–Є, –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г —З—В–Њ —П –≤ —Н—В–Њ –њ—А–Њ—Б—В–Њ –љ–µ –≤–µ—А—О вАФ –љ—Г –љ–µ –Љ–Њ–≥—Г –њ–Њ–≤–µ—А–Є—В—М! вАФ –Њ–љ —В–µ–∞—В—А–∞–ї—М–љ–Њ –Ї–ї–∞–і–µ—В –≤–Є–ї–Ї—Г, —А–∞–Ј–≤–Њ–і–Є—В —А—Г–Ї–∞–Љ–Є –Є –љ–∞–≥–Є–±–∞–µ—В—Б—П —З–µ—А–µ–Ј —Б—В–Њ–ї –≤ –Љ–Њ—С–Љ –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–Є. вАФ –Т–Њ—В —Б–Ї–∞–ґ–Є –Љ–љ–µ, –Ї–∞–Ї —Г –≤–∞—Б –≤ –Я–Є—В–µ—А–µ –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–ї—Б—П —П—З–Љ–µ–љ—М –≤ –≥–ї–∞–Ј—Г? вАФ –Њ–љ –Ї–Њ—А—З–Є—В –ї–Є—Ж–Њ –Є —В—Л—З–µ—В –њ–∞–ї—М—Ж–µ–Љ –≤ —Б–≤–Њ–є –њ—А–∞–≤—Л–є –≥–ї–∞–Ј (–њ–Њ–і —Б—В–µ–Ї–ї–Њ–Љ –Њ—З–Ї–Њ–≤ –≤ –±–ї–µ—Б—В—П—Й–µ–є –Њ–њ—А–∞–≤–µ). вАФ –Э—Г, –Ј–љ–∞–µ—И—М, —П—З–Љ–µ–љ—М, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –≤ –≥–ї–∞–Ј—Г –≤—Б–Ї–∞–Ї–Є–≤–∞–µ—В вАФ –Ї–∞–Ї –Њ–љ –≤ –Я–Є—В–µ—А–µ —Г –≤–∞—Б –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–ї—Б—П?
–ѓ –њ–Њ–ґ–Є–Љ–∞—О –њ–ї–µ—З–∞–Љ–Є. –ѓ —Г–ґ–µ —Б–ї—Л—И–∞–ї —Н—В—Г —И—Г—В–Ї—Г –Є –Њ–±—А–µ—З–µ–љ–љ–Њ, –Ї–∞–Ї –∞–Ї—В—С—А, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ—Г –і–Њ—Б—В–∞–ї–∞—Б—М —В—Г–њ–∞—П —А–Њ–ї—М, –≥–Њ–≤–Њ—А—О:
вАФ –Я–Є—Б—П–Ї.
вАФ –Я–Є—Б—П–Ї! –Я–Є-—Б—П–Ї! вАФ –Њ–љ —В–Њ—А–ґ–µ—Б—В–≤—Г—О—Й–µ –Њ–≥–ї—П–і—Л–≤–∞–µ—В –Ј–∞—Б—В–Њ–ї—М–µ. вАФ –Я–Є—Б—П–Ї, –≥–Њ—Б–њ–Њ–і–∞!
–Ґ–∞–Ї –ї–Є–Ї—Г—О—Й–Є–є –∞–і–≤–Њ–Ї–∞—В –Њ–±–≤–Њ–і–Є—В –≤–Ј–≥–ї—П–і–Њ–Љ —И–Њ–Ї–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л—Е –њ—А–Є—Б—П–ґ–љ—Л—Е, –љ–µ–Њ–ґ–Є–і–∞–љ–љ–Њ —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–≤ –љ–µ–Њ—Б–њ–Њ—А–Є–Љ–Њ–µ –∞–ї–Є–±–Є –њ–Њ–і—Б—Г–і–Є–Љ–Њ–≥–Њ.
–ѓ –≤–Є–ґ—Г, –Ї–∞–Ї –≤—Б—С –Ј–∞—Б—В–Њ–ї—М–µ –Ј–∞–≤–µ—Б–µ–ї–Є–ї–Њ—Б—М, –Ј–∞–≤–µ—А—В–µ–ї–Њ—Б—М, –Ј–∞–±—Г—А–ї–Є–ї–Њ.
¬Ђ–Я–Є—Б—П–Ї?! –Э—Г, –љ–∞–і–Њ –ґ–µ вАФ –Ї–∞–Ї–∞—П –њ—А–µ–ї–µ—Б—В—М! –Э–µ –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М!¬ї
вАФ –Я–Є—Б—П–Ї, –≥–Њ—Б–њ–Њ–і–∞, –±—Г–і–µ—В –њ–Њ–Ї—А—Г—З–µ ¬Ђ–њ–Њ—А–µ–±—А–Є–Ї–∞¬ї!
вАФ ¬Ђ–Я–Њ—А–µ–±—А–Є–Ї¬ї? –І—В–Њ —Н—В–Њ —В–∞–Ї–Њ–µ? вАФ –Ъ–∞–Ї? –Ґ—Л –љ–µ –Ј–љ–∞–µ—И—М? –Ґ–∞–Ї –њ–Є—В–µ—А—Ж—Л –љ–∞–Ј—Л–≤–∞—О—В –њ—А–Є–і–Њ—А–Њ–ґ–љ—Л–є –±–Њ—А–і—О—А!¬ї
вАФ –Р –µ—Й—С –Њ–љ–Є –±–µ–ї—Л–є —Е–ї–µ–± –љ–∞–Ј—Л–≤–∞—О—В –±—Г–ї–Ї–Њ–є, –∞ –њ–Њ–љ—З–Є–Ї вАФ –њ—Л—И–Ї–Њ–є!
вАФ –°–Ї–∞–ґ–Є—В–µ, —Н—В–Њ –њ—А–∞–≤–і–∞? вАФ –Ї–∞–Ї–∞—П-—В–Њ –љ–µ–Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ–∞—П –Љ–Є–ї–Њ–≤–Є–і–љ–∞—П –ґ–µ–љ—Й–Є–љ–∞ –і–Њ–≤–µ—А—З–Є–≤–Њ –љ–∞–Ї–ї–Њ–љ—П–µ—В—Б—П –Ї–Њ –Љ–љ–µ.
вАФ –Я—А–∞–≤–і–∞, вАФ —Б–Њ–≥–ї–∞—И–∞—О—Б—М —П. вАФ –І–Є—Б—В–∞—П –њ—А–∞–≤–і–∞.
–≠—В–Њ –≤—Б—С –љ–∞—И–µ. –Ф–∞.
–Х—Й—С —Г –љ–∞—Б –µ—Б—В—М –Ч–Є–Љ–љ–Є–є –Ф–≤–Њ—А–µ—Ж –Є –Ы–µ—В–љ–Є–є –°–∞–і.
–Э–µ–≤–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –њ–Њ–ї–љ–Њ—Б—В—М—О –Ј–∞–Љ–µ—А–Ј–∞–µ—В –Ј–Є–Љ–Њ–є —В–∞–Ї, —З—В–Њ –њ–Њ –љ–µ–є –Љ–Њ–ґ–љ–Њ —Б–њ–Њ–Ї–Њ–є–љ–Њ –њ—А–Њ–≥—Г–ї—П—В—М—Б—П –і–Њ —Б–∞–Љ–Њ–є –Я–µ—В—А–Њ–њ–∞–≤–ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є –Ъ—А–µ–њ–Њ—Б—В–Є, —Б–њ—Г—Б—В–Є–≤—И–Є—Б—М —Б –Ф–≤–Њ—А—Ж–Њ–≤–Њ–є –Э–∞–±–µ—А–µ–ґ–љ–Њ–є –љ–∞ –ї—С–і. –£ –љ–∞—Б –µ—Б—В—М –†–Њ—Б—В—А–∞–ї—М–љ—Л–µ –Ї–Њ–ї–Њ–љ–љ—Л –Є –С–Є—А–ґ–∞, –љ–∞ —Б—В—Г–њ–µ–љ—М–Ї–∞—Е –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –Љ—Л –њ–µ–ї–Є –њ—А–Њ –У–Є–њ–њ–Њ–њ–Њ—В–∞–Љ–∞, —Г—И–µ–і—И–µ–≥–Њ –Њ–±—А–∞—В–љ–Њ –≤ –ї–µ—Б –Є –њ—А–Њ –і–∞–ї—С–Ї—Г—О –Р–Љ–∞–Ј–Њ–љ–Ї—Г, –љ–∞ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є —П –њ–Њ-–њ—А–µ–ґ–љ–µ–Љ—Г –љ–µ –±—Л–≤–∞–ї –љ–Є–Ї–Њ–≥–і–∞. –Х—Б—В—М –Ш—Б–∞–∞–Ї–Є–є, –Э–µ–≤—Б–Ї–Є–є —Б –Ф–Њ–Љ–Њ–Љ –Ъ–љ–Є–≥–Є, –У–Њ—Б—В–Є–љ—Л–Љ –Є –°–∞–є–≥–Њ–љ–Њ–Љ; –Ь–∞—А—Б–Њ–≤–Њ –њ–Њ–ї–µ, –Ь–Є—Е–∞–є–ї–Њ–≤—Б–Ї–Є–є –Ч–∞–Љ–Њ–Ї. –Ґ–∞–Љ, –Ј–∞—В–µ—А—П–≤—И–Є—Б—М –Ј–∞ –Ї–Њ–ї–Њ–љ–љ–∞–Љ–Є, —Б–Ї—А—Л–≤–∞—П—Б—М –Њ—В –њ—А–Њ–ї–Є–≤–љ–Њ–≥–Њ –і–Њ–ґ–і—П, –Љ—Л —Б—В–Њ—П–ї–Є –±–ї–Є–Ј–Ї–Њ, –њ–Њ—В–Њ–Љ —Ж–µ–ї–Њ–≤–∞–ї–Є—Б—М, –њ–Њ—В–Њ–Љ —В—Л –љ–µ–Њ–ґ–Є–і–∞–љ–љ–Њ –≤—Б—В–∞–ї–∞ –љ–∞ –Ї–Њ–ї–µ–љ–Є, –Є —П –Њ–±–µ–Є–Љ–Є —А—Г–Ї–∞–Љ–Є –≥–ї–∞–і–Є–ї, —Б–њ—Г—В—Л–≤–∞–ї —В–≤–Њ–Є –Љ–Њ–Ї—А—Л–µ –≤–Њ–ї–Њ—Б—Л
–Х—Й—С —Г –љ–∞—Б –µ—Б—В—М –°–∞–љ–≥–∞–ї—М—Б–Ї–Є–є —Б–∞–і–Є–Ї –Љ–Њ–µ–≥–Њ –і–µ—В—Б—В–≤–∞, –°—В—А–µ–Љ—П–љ–љ–∞—П –Љ–Њ–µ–є —О–љ–Њ—Б—В–Є, –Я—Г—И–Ї–Є–љ—Б–Ї–∞—П –Љ–Њ–Є—Е –∞–Љ–±–Є—Ж–Є–є, –Т–∞—Б–Є–ї—М–µ–≤—Б–Ї–Є–є –Ю—Б—В—А–Њ–≤ –Љ–Њ–Є—Е –њ–µ—А–≤—Л—Е —Б—В–Є—Е–Њ–≤, –Я–µ—В—А–Њ–≥—А–∞–і—Б–Ї–∞—П —Б—В–Њ—А–Њ–љ–∞ –Ї–Њ–љ—Б–њ–Є—А–∞—В–Є–≤–љ–Њ–є –Ї–≤–∞—А—В–Є—А—Л (–≥–і–µ –Љ—Л –≤—В–∞–є–љ–µ –Є–Ј—Г—З–∞–ї–Є –Є–≤—А–Є—В, –Є –≥–і–µ —Г—З–Є—В–µ–ї—М –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї—Б—П –Є–љ—Д–Њ—А–Љ–∞—В–Њ—А–Њ–Љ, –љ–Њ –Љ—Л —Г–Ј–љ–∞–ї–Є –Њ–± —Н—В–Њ–Љ —Б–ї–Є—И–Ї–Њ–Љ –њ–Њ–Ј–і–љ–Њ), –Я—Г–ї–Ї–Њ–≤–Њ –њ—А–Њ—Й–∞–љ–Є–є –Є –љ–µ–≤—Л–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–љ—Л—Е –Њ–±–µ—Й–∞–љ–Є–є ¬Ђ–µ—Й—С —Г–≤–Є–і–µ—В—М—Б—П¬ї. –Ґ—А–∞–Љ–≤–∞–Є —Б –Ј–∞–Љ—С—А–Ј—И–Є–Љ–Є –Њ–Ї–љ–∞–Љ–Є. –Ь–∞—В—А–Њ—Б—Л –љ–∞ –њ–∞–љ–љ–Њ —Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є –Љ–µ—В—А–Њ –С–∞–ї—В–Є–є—Б–Ї–∞—П вАФ —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–µ –Љ–µ—Б—В–Њ –≤—Б—В—А–µ—З–Є, –љ–∞—А—П–і—Г —Б –њ–∞—А–Њ–≤–Њ–Ј–Њ–Љ –Ы–µ–љ–Є–љ–∞ –љ–∞ –§–Є–љ–ї—П–љ–і—Б–Ї–Њ–Љ –≤–Њ–Ї–Ј–∞–ї–µ –Є –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–Њ–Љ –Я—Г—И–Ї–Є–љ—Г –љ–∞ —Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є –Љ–µ—В—А–Њ –Я—Г—И–Ї–Є–љ—Б–Ї–∞—П. –Э–∞—А–≤—Б–Ї–Є–µ –≤–Њ—А–Њ—В–∞. –С–µ–ї—Л–µ –љ–Њ—З–Є. –†–∞—Б—В—А–µ–ї–ї–Є, –†–Њ—Б—Б–Є, –§–∞–ї—М–Ї–Њ–љ–µ.
–Ф–∞, —В–∞–Љ! –Ґ–∞–Љ –Њ–љ–Є –Њ—Б—В–∞–ї–Є—Б—М —В–≤–Њ–Є –≤–Њ–ї–Њ—Б—Л, —В–≤–Њ—П –ї—О–±–Њ–≤—М вАФ —Б–∞–Љ–Њ–µ –±–Њ–ї—М—И–Њ–µ, —З—В–Њ —П –њ–Њ—В–µ—А—П–ї –≤ —Н—В–Њ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є, –Љ–Њ—П –µ–і–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ–∞—П –Є –Љ—Г—З–Є—В–µ–ї—М–љ–∞—П –љ–Њ—Б—В–∞–ї—М–≥–Є—П.
вАФ –Э—Г, –Ї–∞–Ї? –Ъ–∞–Ї —Н—В–Њ –Љ–Њ–ґ–µ—В –љ–∞–Ј—Л–≤–∞—В—М—Б—П –њ–Є—Б—П–Ї–Њ–Љ?! вАФ –љ–µ —Г–љ–Є–Љ–∞–ї—Б—П –Њ—З–Ї–∞—Б—В—Л–є, –њ–Њ–±–µ–і–љ–Њ —Б–≤–µ—А–Ї–∞—П –≥–ї–∞–Ј–∞–Љ–Є. вАФ –Я—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П—О —Б–µ–±–µ: –њ—А–Є—Е–Њ–ґ—Г —П –і–Њ–Љ–Њ–є –Є –≥–Њ–≤–Њ—А—О —А–Њ–і–Є—В–µ–ї—П–Љ ¬Ђ–£ –Љ–µ–љ—П –≤—Б–Ї–Њ—З–Є–ї –њ–Є—Б—П–Ї!¬ї вАФ –і–∞ –Љ–µ–љ—П –±—Л –≤—Л—Б–µ–Ї–ї–Є –Ј–∞ —Н—В—Г —Д—А–∞–Ј—Г!
¬Ђ–Т—Б–Ї–Њ—З–Є–ї –њ–Є—Б—П–Ї!¬ї вАФ –Ј–∞—Б—В–Њ–ї—М–µ –њ—А–Њ—Б—В–Њ –њ–Њ–Ї–∞—В—Л–≤–∞–µ—В—Б—П, —Г–Љ–Є—А–∞–µ—В –Њ—В —Б–Љ–µ—Е–∞.
–•–Њ—А–Њ—И–∞—П, –±–µ–Ј–Њ—В–Ї–∞–Ј–љ–∞—П —И—Г—В–Ї–∞.
вАФ –Ф–∞–≤–∞–є—В–µ –ґ–µ –≤—Л–њ—М–µ–Љ –Ј–∞ –њ–Є—Б—П–Ї! –І—В–Њ–±—Л –Њ–љ –≤—Б–Ї–∞–Ї–Є–≤–∞–ї, –≥–і–µ –љ–∞–і–Њ –Є –Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–∞–і–Њ, –љ–Њ –љ–Є–Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–µ –≤—Б–Ї–∞–Ї–Є–≤–∞–ї –љ–∞ –≥–ї–∞–Ј—Г!
¬Ђ–Т—Л–њ—М–µ–Љ! –Э–∞–ї–Є–≤–∞–є!¬ї
вАФ –У–і–µ —В–≤–Њ—П —А—О–Љ–Ї–∞?
вАФ –ѓ –љ–µ –њ—М—О...
вАФ –І—В–Њ –Ј–љ–∞—З–Є—В ¬Ђ–љ–µ –њ—М—О¬ї?!
вАФ ¬Ђ–Э–µ –њ—М—О¬ї вАФ –Ј–љ–∞—З–Є—В –љ–µ –њ—М—О.
вАФ –Э–µ –±–Њ–µ—Ж, вАФ —А–∞–Ј–Њ—З–∞—А–Њ–≤—Л–≤–∞–µ—В—Б—П —Е–Њ–Ј—П–Є–љ.
вАФ –Я–Є—В–µ—А–µ—Ж, вАФ –њ–Њ–і—В–≤–µ—А–ґ–і–∞–µ—В –Њ—З–Ї–∞—Б—В—Л–є.
вАФ –Я–Є—Б—П–Ї! вАФ —Б–Љ–µ—С—В—Б—П –Ї—В–Њ-—В–Њ.
вАФ –Э–∞–Љ –±–Њ–ї—М—И–µ –і–Њ—Б—В–∞–љ–µ—В—Б—П! вАФ –і–Њ–≥–∞–і—Л–≤–∞–µ—В—Б—П –і—А—Г–≥–Њ–є.
–°–Љ–µ—С—В—Б—П –љ–µ–Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ–∞—П –Љ–Є–ї–Њ–≤–Є–і–љ–∞—П –ґ–µ–љ—Й–Є–љ–∞. –°–Љ–µ—С—В—Б—П –Ь–∞–≤—А. –°–Љ–µ—С—В—Б—П –Ъ–Њ–ї–Њ–Љ–±–Є–љ–∞. –Ш —П –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞—О, —З—В–Њ —Б–µ–≥–Њ–і–љ—П –Я–µ—В—А—Г—И–Ї–∞ вАФ —П —Б–∞–Љ.
–ѓ –њ—Л—В–∞—О—Б—М —Г–ї—Л–±–љ—Г—В—М—Б—П. –ѓ –≤—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞—О –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–µ —Б–ї–Њ–≤–∞ –Я–Є–Ї–∞—Б—Б–Њ: ¬Ђ–Т—Л–њ–µ–є—В–µ –Ј–∞ –Љ–µ–љ—П. –Т—Л–њ–µ–є—В–µ –Ј–∞ –Љ–Њ—С –Ј–і–Њ—А–Њ–≤—М–µ. –Т—Л –ґ–µ –Ј–љ–∞–µ—В–µ, —З—В–Њ —П –±–Њ–ї—М—И–µ –љ–µ –Љ–Њ–≥—Г –њ–Є—В—М¬ї.
–Я–Њ–і —И—Г–Љ–Њ–Ї —П –≤—Б—В–∞—О –Є–Ј-–Ј–∞ —Б—В–Њ–ї–∞.
–ѓ –њ—А–Њ—Е–Њ–ґ—Г –Љ–Є–Љ–Њ –Њ–≥—А–Њ–Љ–љ–Њ–≥–Њ –∞–Ї–≤–∞—А–Є—Г–Љ–∞, –≥–і–µ —В–Њ—З–љ–Њ —В–∞–Ї –ґ–µ, –Ї–∞–Ї –Љ—Л, –±–µ—Б—Б–Љ—Л—Б–ї–µ–љ–љ–Њ –њ–µ—А–µ–Љ–µ—Й–∞—О—В—Б—П –≤ –Ј–∞–Љ–Ї–љ—Г—В–Њ–Љ –њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ—Б—В–≤–µ —А–∞–Ј–љ–Њ—Ж–≤–µ—В–љ—Л–µ —А—Л–±–Ї–Є.
–ѓ –њ—А–Њ—Е–Њ–ґ—Г —З–µ—А–µ–Ј –і–Њ–Љ –Є –Ј–∞–њ–Є—А–∞—О—Б—М –≤ –≤–∞–љ–љ–Њ–є, –≤–Ї–ї—О—З–∞—О –≤–Њ–і—Г.
–Я–Њ—З—В–Є –љ–µ—Б—В–µ—А–њ–Є–Љ–∞—П —В–Њ—Б–Ї–∞ –љ–∞–≤–∞–ї–Є–≤–∞–µ—В—Б—П –љ–∞ –Љ–µ–љ—П. –Ґ–Њ—Б–Ї–∞ –Є –Ј–ї–Њ–±–∞. –Я–Њ—З–µ–Љ—Г, –њ–Њ—З–µ–Љ—Г –±—Л —В–Њ–Љ—Г –ґ–µ –Я—Г—И–Ї–Є–љ—Г –љ–µ –љ–∞–њ–Є—Б–∞—В—М, —З—В–Њ-–љ–Є–±—Г–і—М –њ—А–Њ –њ–Є—Б—П–Ї –Є–ї–Є –њ–Њ—А–µ–±—А–Є–Ї?! –Ъ–∞–Ї–∞—П —Н—В–Њ –±—Л–ї–∞ –±—Л –њ–Њ–Љ–Њ—Й—М –≤—Б–µ–Љ –љ–∞–Љ, –њ–Є—В–µ—А—Ж–∞–Љ, —А–∞–Ј–±—А–Њ—Б–∞–љ–љ—Л–Љ –њ–Њ –±–µ—Б–Ї–Њ–љ–µ—З–љ—Л–Љ —В—Г—Б–Њ–≤–Ї–∞–Љ –њ–ї–∞–љ–µ—В—Л!
–Т—Б—С –±—Л–ї–Њ –±—Л –Є–љ–∞—З–µ.
вАФ –Р –≤–µ–і—М –≤—Л –љ–∞–њ—А–∞—Б–љ–Њ —Б–Љ–µ—С—В–µ—Б—М, вАФ —Б–њ–Њ–Ї–Њ–є–љ—Л–Љ, —Е–Њ–ї–Њ–і–љ—Л–Љ, –љ–Њ –і—А—Г–ґ–µ–ї—О–±–љ—Л–Љ –≥–Њ–ї–Њ—Б–Њ–Љ —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї –±—Л —П —В–Њ–≥–і–∞. вАФ –Я–Є—Б—П–Ї вАФ —Н—В–Њ –љ–Њ—А–Љ–∞–ї—М–љ–Њ–µ —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–µ —Б–ї–Њ–≤–Њ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ –і–∞–ґ–µ –Я—Г—И–Ї–Є–љ –љ–µ –±—А–µ–Ј–≥–Њ–≤–∞–ї.
вАФ –Я—Г—И–Ї–Є–љ? вАФ –љ–∞—Б—В–Њ—А–Њ–ґ–Є–ї—Б—П –±—Л —И—Г—В–љ–Є–Ї.
вАФ –Р–≥–∞... –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А –°–µ—А–≥–µ–µ–≤–Є—З.
–°–Њ–±—А–∞–љ–Є–µ –њ—А–Є—В–Є—Е–ї–Њ –±—Л. –У–Њ–ї–Њ–≤—Л –њ–Њ–≤–µ—А–љ—Г–ї–Є—Б—М –±—Л –≤ –Љ–Њ—О —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Г. –Т—Б–µ –±—Л –ґ–і–∞–ї–Є, —З—В–Њ –±—Г–і–µ—В –і–∞–ї—М—И–µ?
вАФ –Ш –≥–і–µ –ґ–µ —Н—В–Њ –Я—Г—И–Ї–Є–љ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В –њ—А–Њ –њ–Є—Б—П–Ї?
вАФ –Ф–∞, –≤ вАЬ–Х–≤–≥–µ–љ–Є–Є –Ю–љ–µ–≥–Є–љ–µвАЭ, –≤ –њ–µ—А–≤–Њ–є –ґ–µ —З–∞—Б—В–Є. –Я–Њ–Љ–љ–Є—В–µ?
вАЬ–Ч–∞—В–Њ —З–Є—В–∞–ї –Р–і–∞–Љ–∞ –°–Љ–Є—В–∞
–Ш –±—Л–ї –≥–ї—Г–±–Њ–Ї–Њ–є —Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ,
–Ґ–Њ –µ—Б—В—М —Г–Љ–µ–ї —Б—Г–і–Є—В—М –Њ —В–Њ–Љ,
–Ъ–∞–Ї –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–Њ –±–Њ–≥–∞—В–µ–µ—В,
–Ш —З–µ–Љ –ґ–Є–≤–µ—В, –Є –њ–Њ—З–µ–Љ—Г
–Э–µ –љ—Г–ґ–љ–Њ –Ј–Њ–ї–Њ—В–∞ –µ–Љ—Г,
–Ъ–Њ–≥–і–∞ –њ—А–Њ—Б—В–Њ–є –њ—А–Њ–і—Г–Ї—В –Є–Љ–µ–µ—В.
–Р —В–∞–Ї–ґ–µ –Ј–љ–∞–ї –Њ–љ, —З–µ–Љ –Є –Ї–∞–Ї
–Э–∞—Б—В—Л—А–љ—Л–є –≤—Л–≤–µ—Б—В–Є –њ–Є—Б—П–ЇвАЭ.
–Т –Ї–Њ–Љ–љ–∞—В–µ —Б—В–∞–ї–Њ –±—Л —Б–Њ–≤—Б–µ–Љ —В–Є—Е–Њ. –°–Њ–ї–Њ –љ–∞—Б—В–µ–љ–љ—Л—Е —З–∞—Б–Њ–≤.
вАФ –Э—Г —А–∞–Ј —Г–ґ –Я—Г—И–Ї–Є–љ... вАФ —А–∞–Ј–Њ—З–∞—А–Њ–≤–∞–ї—Б—П –±—Л –ґ–µ–љ—Б–Ї–Є–є –≥–Њ–ї–Њ—Б.
–®—Г—В–љ–Є–Ї –њ–Њ–њ—А–∞–≤–Є–ї –±—Л –Њ–њ—А–∞–≤—Г, —З—В–Њ-—В–Њ –њ–Њ–њ—Л—В–∞–ї—Б—П –±—Л –њ–Њ–і—Ж–µ–њ–Є—В—М –≤–Є–ї–Ї–Њ–є –≤ —Б–∞–ї–∞—В–љ–Њ–є –Љ–Є—Б–Ї–µ. –Ъ–Њ–ї–Њ–Љ–±–Є–љ–∞ –њ–Њ—В—Г–њ–Є–ї–∞ –±—Л —Б–≤–Њ–Є –Ї—Г–Ї–Њ–ї—М–љ—Л–µ –≥–ї–∞–Ј–Ї–Є. –Ь–∞–≤—А –њ—А–Є–≥–љ—Г–ї –±—Л —Б–≤–Њ—С –Ї—А–∞—Б–љ–Њ–µ –ї–Є—Ж–Њ –Ї —Б–∞–Љ–Њ–є —В–∞—А–µ–ї–Ї–µ.
–ѓ –≤—Л–Ї–ї—О—З–∞—О –≤–Њ–і—Г –Є –≤—Л—Е–Њ–ґ—Г –Є–Ј –≤–∞–љ–љ–Њ–є. –І–∞—Б—В—М –≥–Њ—Б—В–µ–є —Г–ґ–µ –≤—Б—В–∞–ї–∞ –Є–Ј-–Ј–∞ —Б—В–Њ–ї–∞ –Є —В–Њ–ї–њ–Є—В—Б—П –љ–∞ –Ї—Г—Е–љ–µ. –Ю–љ–Є –≤—Б–µ –Њ–Ї—А—Г–ґ–Є–ї–Є –Ь–∞–≤—А–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є —Б–Њ —Б—В–∞–Ї–∞–љ–Њ–Љ –Ї—А–∞—Б–љ–Њ–≥–Њ –≤–Є–љ–∞ –≤ —А—Г–Ї–µ —Г–≤–µ—А–µ–љ –Є –і–Є–і–∞–Ї—В–Є—З–µ–љ, –Ї–∞–Ї –≥–∞—А–≤–∞—А–і—Б–Ї–Є–є –њ—А–Њ—Д–µ—Б—Б–Њ—А:
вАФ –≠—В–Њ –±—Л–ї–∞ –Њ—З–µ–љ—М –њ–Њ–њ—Г–ї—П—А–љ–∞—П —В–µ–Њ—А–Є—П –≤ –љ–∞—З–∞–ї–µ 90-—Е. –Ґ–µ–Њ—А–Є—П Flow. –Х—С –∞–≤—В–Њ—А вАФ –∞–Љ–µ—А–Є–Ї–∞–љ—Б–Ї–Є–є –њ—А–Њ—Д–µ—Б—Б–Њ—А –≤–µ–љ–≥–µ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П. –Ь–Є—Е–∞–ї–Є–є –І–Є–Ї—Б–µ–љ–і–Љ–Є—Е–∞–ї–Є–є. –Ю–±—П–Ј–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ –њ–Њ—З–Є—В–∞–є—В–µ. –Ъ–љ–Є–≥–∞ —В–∞–Ї –Є –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В—Б—П Flow. –Я–µ—А–µ–≤–µ—А–љ—С—В –≤—Б—О –≤–∞—И—Г –ґ–Є–Ј–љ—М.
вАФ Flow? –Э–∞–і–Њ –Ј–∞–њ–Њ–Љ–љ–Є—В—М. –Р –≤ —З—С–Љ –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ–∞—П –Є–і–µ—П —В–µ–Њ—А–Є–Є?
–І–µ—А–µ–Ј –Ї—Г—Е–љ—О —П –≤—Л—Е–Њ–ґ—Г –љ–∞ —Г–ї–Є—Ж—Г.
–ѓ —З–Є—В–∞–ї –Ї–љ–Є–≥—Г Flow. –Ш–і–µ—П –Ї–љ–Є–≥–Є –њ—А–Њ—Б—В–∞: –µ—Б–ї–Є —В—Л –≤—Б—С –≤—А–µ–Љ—П –±—Г–і–µ—И—М –і–µ–ї–∞—В—М —З—В–Њ-—В–Њ, —З—В–Њ —Г —В–µ–±—П –Њ—З–µ–љ—М –њ—А–Њ—Б—В–Њ –њ–Њ–ї—Г—З–∞–µ—В—Б—П вАФ —В—Л –±—Л—Б—В—А–Њ –Ј–∞—Б–Ї—Г—З–∞–µ—И—М –Є –Ј–∞—З–∞—Е–љ–µ—И—М. –Х—Б–ї–Є –ґ–µ —В—Л –і–µ–ї–∞–µ—И—М —З—В–Њ-—В–Њ, —З—В–Њ —Г —В–µ–±—П —Б–Њ–≤—Б–µ–Љ –љ–µ –њ–Њ–ї—Г—З–∞–µ—В—Б—П вАФ —В—Л –Њ—В—З–∞–µ—И—М—Б—П –Є –Ј–∞–њ—М—С—И—М –Њ—В –≥–Њ—А—П. –Э—Г–ґ–љ–Њ –і–µ–ї–∞—В—М —В–Њ, —З—В–Њ —Г —В–µ–±—П –њ–Њ–ї—Г—З–∞–µ—В—Б—П, –љ–Њ –њ—А–Є —Н—В–Њ–Љ, —В–Њ, —З—В–Њ —В—А–µ–±—Г–µ—В –Њ—В —В–µ–±—П –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї—С–љ–љ—Л—Е —Г—Б–Є–ї–Є–є. –Ґ–Њ–≥–і–∞ –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–∞–µ—В —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є–µ Flow –Є —В–µ–±—П –љ–µ—Б—С—В —В–µ—З–µ–љ–Є–µ –ї–µ–≥–Ї–Њ –Є –±–µ–Ј–Ј–∞–±–Њ—В–љ–Њ, –Є —В—Л –љ–µ –Ј–∞–Љ–µ—З–∞–µ—И—М, –Ї–∞–Ї –њ—А–Њ—Е–Њ–і–Є—В –≤—А–µ–Љ—П, —Г—Е–Њ–і–Є—В —В–≤–Њ—П –Љ–Њ–ї–Њ–і–Њ—Б—В—М, –≤–Ј—А–Њ—Б–ї–µ—О—В –і–µ—В–Є, –Ј–∞–≤–Њ–і–Є—В —И–∞—И–љ–Є –ґ–µ–љ–∞. –≠—В–Њ—В –Љ–µ—В–Њ–і –Љ–Њ–ґ–µ—В —Б–і–µ–ї–∞—В—М —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞ –Њ—З–µ–љ—М, –Њ—З–µ–љ—М —Б—З–∞—Б—В–ї–Є–≤—Л–Љ –Є –њ—А–Њ–і—Г–Ї—В–Є–≤–љ—Л–Љ. –•–Њ—А–Њ—И–Њ, —З—В–Њ –љ–∞ –Љ–µ–љ—П —Н—В–Њ –љ–µ –і–µ–є—Б—В–≤—Г–µ—В.
–Ъ–∞–Ї–Њ–є —Б–µ–≥–Њ–і–љ—П –њ—А–Є—П—В–љ—Л–є –њ—А–Њ—Е–ї–∞–і–љ—Л–є –≤–µ—З–µ—А, –∞ –ї—О–і–Є —Б–Є–і—П—В –≤ –і—Г—Е–Њ—В–µ, —Б–Љ–µ—О—В—Б—П –љ–∞–і –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ—Б—В—П–Љ–Є –і–Є–∞–ї–µ–Ї—В–∞ –і–∞–ї—С–Ї–Њ–≥–Њ —Б–µ–≤–µ—А–љ–Њ–≥–Њ –≥–Њ—А–Њ–і–∞, –Њ–±—Б—Г–ґ–і–∞—О—В —Б–Њ–Љ–љ–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–µ —В–µ–Њ—А–Є–Є, –њ—М—О—В –Є –Ј–∞–Ї—Г—Б—Л–≤–∞—О—В, —Е—А—Г—Б—В—П—В –Њ–≥—Г—А—Ж–∞–Љ–Є. –Ю–љ–Є –≤–µ—Б–µ–ї—П—В —З—Г–ґ–Є—Е –ґ—С–љ, –≤–і—Л—Е–∞—О—В –≤–Њ–Ј–і—Г—Е, —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —З—В–Њ –њ—А–Њ–њ—Г—Й–µ–љ–љ—Л–є —З–µ—А–µ–Ј –ї—С–≥–Ї–Є–µ –Љ–∞–ї–Њ–Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ—Л—Е –ї—О–і–µ–є, –Є —Б–љ–Њ–≤–∞ –њ—М—О—В –Є –Ј–∞–Ї—Г—Б—Л–≤–∞—О—В. –Ш —Б–љ–Њ–≤–∞ —Е—А—Г—Б—В—П—В –Њ–≥—Г—А—Ж–∞–Љ–Є.
¬Ђ–Т—Л–њ–µ–є—В–µ –Ј–∞ –Љ–µ–љ—П. –Т—Л–њ–µ–є—В–µ –Ј–∞ –Љ–Њ—С –Ј–і–Њ—А–Њ–≤—М–µ. –Т—Л –ґ–µ –Ј–љ–∞–µ—В–µ, —З—В–Њ —П –±–Њ–ї—М—И–µ –љ–µ –Љ–Њ–≥—Г –њ–Є—В—М¬ї.
–Т –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–є –≤–µ—З–µ—А —Б–≤–Њ–µ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є, –≤–Њ –≤—А–µ–Љ—П –Њ–±–µ–і–∞ —Б –і—А—Г–Ј—М—П–Љ–Є, –Я–Є–Ї–∞—Б—Б–Њ –њ—А–Њ–Є–Ј–љ—С—Б —Н—В—Г —Д—А–∞–Ј—Г –Є —Г—И—С–ї –Є–Ј –Ї–Њ–Љ–љ–∞—В—Л –њ—А—П–Љ–Њ –≤ –±–µ—Б—Б–Љ–µ—А—В–Є–µ.
–Ъ—В–Њ-—В–Њ –Є–Ј –і—А—Г–Ј–µ–є, –≤ –Є–љ—В–µ—А–≤—М—О –ґ—Г—А–љ–∞–ї—Г Time —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј–∞–ї –Њ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–µ–є —Д—А–∞–Ј–µ —Е—Г–і–Њ–ґ–љ–Є–Ї–∞. –§—А–∞–Ј–∞ —Б—В–∞–ї–∞ —В–µ–Љ, —З—В–Њ –Ј–і–µ—Б—М –љ–∞–Ј—Л–≤–∞—О—В conversational topic.
–І–µ—А–µ–Ј –њ–∞—А—Г –љ–µ–і–µ–ї—М –Я–Њ–ї –Ь–∞–Ї–Ї–∞—А—В–љ–Є, –Њ—В–і—Л—Е–∞—П —Б –Ы–Є–љ–і–Њ–є –љ–∞ –ѓ–Љ–∞–є–Ї–µ, —Г–Ј–љ–∞—С—В, —З—В–Њ –њ–Њ —Б–Њ—Б–µ–і—Б—В–≤—Г —Б –љ–Є–Љ–Є –Њ—В–і—Л—Е–∞–µ—В –Ф–∞—Б—В–Є–љ –•–Њ—Д—Д–Љ–∞–љ.
–Я–Њ–ї –Є –Ы–Є–љ–і–∞ —А–µ—И–∞—О—В –њ–Њ–Ј–≤–Њ–љ–Є—В—М –•–Њ—Д—Д–Љ–∞–љ—Г, —З—В–Њ–±—Л –њ–Њ–Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ–Є—В—М—Б—П —Б –љ–Є–Љ. –Ч–≤–Њ–љ–Є—В –Ы–Є–љ–і–∞, —В–∞–Ї –Ї–∞–Ї –Я–Њ–ї —Б—В–µ—Б–љ—П–µ—В—Б—П –Ј–≤–Њ–љ–Є—В—М –љ–µ–Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ—Л–Љ –ї—О–і—П–Љ (–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Њ–µ –≤–Њ—Б–њ–Є—В–∞–љ–Є–µ).
–Ы–Є–љ–і–∞ —А–∞–Ј–≥–Њ–≤–∞—А–Є–≤–∞–µ—В —Б –ґ–µ–љ–Њ–є –•–Њ—Д—Д–Љ–∞–љ–∞ –Р–љ–Є: –≤–Њ—В, –Љ–Њ–ї, –і–µ—Б–Ї–∞—В—М, –Є –Љ—Л —В—Г—В, —Б–Ї—Г—З–∞–µ–Љ, вАФ –љ–µ —Е–Њ—В–Є—В–µ –ї–Є –≤—Б—В—А–µ—В–Є—В—М—Б—П –њ–Њ–Њ–±—Й–∞—В—М—Б—П?
–•–Њ—Д—Д–Љ–∞–љ—Л –љ–µ–Љ–µ–і–ї–µ–љ–љ–Њ –њ—А–Є–≥–ї–∞—И–∞—О—В –Я–Њ–ї–∞ —Б –Ы–Є–љ–і–Њ–є –љ–∞ –Њ–±–µ–і (–±—Л–≤—И–Є–є –С–Є—В–ї!), –≥–і–µ –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–∞–µ—В –љ–µ–Ї–Њ–µ –њ–Њ–і–Њ–±–Є–µ –±—Л—Б—В—А–Њ–є –і—А—Г–ґ–±—Л.
(–Ш–љ—В–µ—А–µ—Б–љ–Њ, —И—Г—В–Є–ї –ї–Є –•–Њ—Д—Д–Љ–∞–љ –≤–Њ –≤—А–µ–Љ—П –Њ–±–µ–і–∞ –љ–∞–і –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ—Б—В—П–Љ–Є –±—А–Є—В–∞–љ—Б–Ї–Њ–є —А–µ—З–Є?
"–Я–Њ–ї, –≤—Л –≤–µ–і—М –Є–Ј –С—А–Є—В–∞–љ–Є–Є, —В–∞–Ї –Є–ї–Є –љ–µ —В–∞–Ї? (aren't you?) –Т–Њ—В —Б–Ї–∞–ґ–Є—В–µ –Љ–љ–µ, –і—А—Г–ґ–Є—Й–µ, –Ї—Е–µ-–Ї—Е–µ (–Р–љ–Є, —Б–µ–є—З–∞—Б –±—Г–і–µ—В –Њ—З–µ–љ—М, –Њ—З–µ–љ—М —Б–Љ–µ—И–љ–Њ!) –Ъ–∞–Ї —Г –≤–∞—Б –≤ –С—А–Є—В–∞–љ–Є–Є –љ–∞–Ј—Л–≤–∞—О—В —Н–ї–µ–≤–∞—В–Њ—А, вАФ –љ—Г —В–∞–Ї—Г—О –Ї–∞–±–Є–љ–Ї—Г —Б –Ї–љ–Њ–њ–Њ—З–Ї–∞–Љ–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –њ–Њ–і–љ–Є–Љ–∞–µ—В –ї—О–і–µ–є —Б —Н—В–∞–ґ–∞ –љ–∞ —Н—В–∞–ґ?
–Ы–Є—Д—В?! –•–∞-—Е–∞-—Е–∞, –і–Њ—А–Њ–≥–∞—П, вАФ —В—Л —Б–ї—Л—И–∞–ї–∞?! –Ы–Є—Д—В!" )
–Ф–∞—Б—В–Є–љ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В –Я–Њ–ї—Г: ¬Ђ–Ь–љ–µ –≤—Б–µ–≥–і–∞ –Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М –∞–±—Б–Њ–ї—О—В–љ–Њ –љ–µ–≤–µ—А–Њ—П—В–љ—Л–Љ, –Ї–∞–Ї –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –≤–Ј—П—В—М –Є –љ–∞–њ–Є—Б–∞—В—М –њ–µ—Б–љ—О. –ѓ, —З–µ—Б—В–љ–Њ –≥–Њ–≤–Њ—А—П, –њ—А–µ–Ї–ї–Њ–љ—П—О—Б—М –њ–µ—А–µ–і –≤–∞—И–Є–Љ —В–∞–ї–∞–љ—В–Њ–Љ¬ї.
–Я–Њ–ї —Б–Љ—Г—Й—С–љ, –Я–Њ–ї —З—В–Њ-—В–Њ –±–Њ—А–Љ–Њ—З–µ—В –њ—А–Њ —В–∞–ї–∞–љ—В –Ф–∞—Б—В–Є–љ–∞.
–•–Њ—Д—Д–Љ–∞–љ –Ј–∞–і—Г–Љ—З–Є–≤–Њ –≤—Б—В–∞—С—В –Є–Ј –Ї—А–µ—Б–ї–∞, –±–µ—А—С—В –ґ—Г—А–љ–∞–ї, —А–∞—Б–Ї—А—Л—В—Л–є –љ–∞ —П—А–Ї–Њ–є —Б—В—А–∞–љ–Є—Ж–µ (—Б–Њ–ї–љ—Ж–µ–Ј–∞—Й–Є—В–љ—Л–µ –Њ—З–Ї–Є –Њ—В–Њ–і–≤–Є–љ—Г—В—Л –≤ —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Г) –Є –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В: ¬Ђ–ѓ –њ—А–Њ—З–Є—В–∞–ї –≤ Time –њ—А–Њ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–є –і–µ–љ—М –Я–Є–Ї–∞—Б—Б–Њ. –Я—А–Њ –µ–≥–Њ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–µ —Б–ї–Њ–≤–∞. –Ь–љ–µ –Ї–∞–ґ–µ—В—Б—П, –Њ–љ–Є –Љ–Њ–≥–ї–Є –±—Л —Б—В–∞—В—М –њ—А–µ–Ї—А–∞—Б–љ—Л–Љ –њ—А–Є–њ–µ–≤–Њ–Љ –і–ї—П –њ–µ—Б–љ–Є¬ї.
–Я–Њ–ї –±–µ—А—С—В –≥–Є—В–∞—А—Г (—Б–ї—Г—З–∞–є–љ—Г—О, –Ї–∞–Ї —А–Њ—П–ї—М –≤ –Ї—Г—Б—В–∞—Е), —Б–Љ–Њ—В—А–Є—В –љ–∞ —Д—А–∞–Ј—Г –≤ –ґ—Г—А–љ–∞–ї–µ, –Є —Б—А–∞–Ј—Г –љ–∞—З–Є–љ–∞–µ—В –њ–µ—В—М:
"Drink To Me, Drink To My Health
You Know I Can't Drink Any More"
¬Ђ–Р–љ–Є!¬ї, вАФ –Ї—А–Є—З–Є—В –Ф–∞—Б—В–Є–љ. вАФ ¬Ђ–Ґ—Л —Б–ї—Л—И–Є—И—М?! –Ю–љ –і–µ–ї–∞–µ—В —Н—В–Њ –њ—А—П–Љ–Њ –Ј–і–µ—Б—М! –Ю–љ –і–µ–ї–∞–µ—В —Н—В–Њ –Є —Г –љ–µ–≥–Њ –њ–Њ–ї—Г—З–∞–µ—В—Б—П!
–Э–µ–≤–µ—А–Њ—П—В–љ–Њ! –£–і–Є–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ! –Ъ–∞–Ї? –І—Г–ґ–∞—П –Љ—Л—Б–ї—М —З—Г—В—М –Ї–Њ—Б–љ—Г–ї–∞—Б—М –≤–∞—И–µ–≥–Њ —Б–ї—Г—Е–∞ –Є —Г–ґ–µ —Б—В–∞–ї–∞ –≤–∞—И–µ—О —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М—О, –Ї–∞–Ї –±—Г–і—В–Њ –≤—Л —Б –љ–µ—О –љ–Њ—Б–Є–ї–Є—Б—М, –ї–µ–ї–µ—П–ї–Є, —А–∞–Ј–≤–Є–≤–∞–ї–Є –µ–µ –±–µ—Б–њ—А–µ—Б—В–∞–љ–љ–Њ!¬ї
–£–≤–ї–µ—З—С–љ–љ—Л–є —Б–≤–Њ–Є–Љ–Є –Љ—Л—Б–ї—П–Љ–Є —П –Ї –њ–Њ–і—Е–Њ–ґ—Г —Б–Ї–∞–Љ–µ–є–Ї–µ-–Ї–∞—З–∞–ї–Ї–µ, —Б—В–Њ—П—Й–µ–є –Ј–∞ –і–Њ–Љ–Њ–Љ.
–Ш–љ—Б—В–Є–љ–Ї—В–Є–≤–љ–Њ —П —З—Г–≤—Б—В–≤—Г—О —З—М—С-—В–Њ –њ—А–Є—Б—Г—В—Б—В–≤–Є–µ, –њ–Њ–і–љ–Є–Љ–∞—О –≥–ї–∞–Ј–∞.
–Э–∞ —Б–Ї–∞–Љ–µ–є–Ї–µ, –Ј–∞–Ї–Є–љ—Г–≤ –љ–Њ–≥—Г –љ–∞ –љ–Њ–≥—Г, —Б–Є–і–Є—В –Ъ–Њ–ї–Њ–Љ–±–Є–љ–∞ –Є –Ї—Г—А–Є—В –і–ї–Є–љ–љ—Г—О —В–Њ–љ–Ї—Г—О —Б–Є–≥–∞—А–µ—В—Г.
–£–≤–Є–і–µ–≤ –µ—С, —П –њ–Њ—Б–њ–µ—И–љ–Њ —А–∞–Ј–≤–Њ—А–∞—З–Є–≤–∞—О—Б—М, –Є–і—Г –Њ–±—А–∞—В–љ–Њ.
–Ы–µ—В –њ—П—В—М –љ–∞–Ј–∞–і —П –±—Л, –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ –ґ–µ, –≤–Њ—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–ї—Б—П –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В–Њ–Љ –њ–Њ–±–Њ–ї—В–∞—В—М —Б —Е–Њ—А–Њ—И–µ–љ—М–Ї–Њ–є –љ–µ–Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ–Ї–Њ–є. –ѓ –±—Л –љ–µ–њ—А–Є–љ—Г–ґ–і—С–љ–љ–Њ —Б–µ–ї —А—П–і–Њ–Љ —Б –љ–µ–є, —П –±—Л –Њ—Б—В—А–Њ—Г–Љ–љ–Њ —И—Г—В–Є–ї, —П –±—Л —Д–ї–Є—А—В–Њ–≤–∞–ї —Б –љ–µ–є –љ–∞–њ—А–Њ–њ–∞–ї—Г—О, –њ–Њ–Ї–∞ —Н—В–Њ—В –µ—С –Ь–∞–≤—А –≤—В—О—Е–Є–≤–∞–µ—В –љ–∞ –Ї—Г—Е–љ–µ –њ—А–Њ Flow. –Я–Њ—В–Њ–Љ, –Ї–∞–Ї –Я–Њ–ї, —П –≤–Ј—П–ї –±—Л –≥–Є—В–∞—А—Г (—Б–ї—Г—З–∞–є–љ–Њ –Њ–Ї–∞–Ј–∞–≤—И—Г—О—Б—П –≤ –±–∞–≥–∞–ґ–љ–Є–Ї–µ –Љ–∞—И–Є–љ—Л) –Є –њ–µ–ї –±—Л –Т–µ—А—В–Є–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ (—П –Ї–Њ–≥–і–∞-—В–Њ —Е–Њ—А–Њ—И–Њ –њ–µ–ї –Т–µ—А—В–Є–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ, –њ–Њ–і—А–∞–ґ–∞—П –µ–≥–Њ –Є–љ—В–Њ–љ–∞—Ж–Є—П–Љ –Є –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–ї–µ–њ–љ–Њ –≥—А–∞—Б—Б–Є—А—Г—П). –ѓ —Б–Љ–Њ—В—А–µ–ї –±—Л —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–∞ –љ–µ—С, –њ–µ–ї –±—Л —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –і–ї—П –љ–µ—С –Є, —Б—З–∞—Б—В–ї–Є–≤–∞—П —В–∞–Ї–Є–Љ –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ–Љ, –Њ–љ–∞ –і—Г–Љ–∞–ї–∞ –±—Л –Њ–±–Њ –Љ–љ–µ –њ–Њ –і–Њ—А–Њ–≥–µ –і–Њ–Љ–Њ–є, –і—Г–Љ–∞–ї–∞ –±—Л –Њ–±–Њ –Љ–љ–µ, –≤—Л—Б–Ї–∞–ї—М–Ј—Л–≤–∞—П –Є–Ј —Н—В–Њ–є —Б–≤–Њ–µ–є –Ї–Њ—А–Њ—В–Ї–Њ–є —О–±–Ї–Є, –і—Г–Љ–∞–ї–∞ –±—Л –Њ–±–Њ –Љ–љ–µ, —Б–љ–Є–Љ–∞—П –Љ–∞–Ї–Є—П–ґ –Є —Г–Ї—А–∞—И–µ–љ–Є—П, –µ—Й—С –±–Њ–ї–µ–µ –Њ—В–Ї—А–Њ–≤–µ–љ–љ–Њ –і—Г–Љ–∞–ї–∞ –±—Л –Њ–±–Њ –Љ–љ–µ, –њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞—П –і—Г—И, –Є (–≤–Њ–ґ–і–µ–ї–µ–љ–љ–Њ, —Б –≤–Њ—Б—В–Њ—А–≥–Њ–Љ) –і—Г–Љ–∞–ї–∞ –±—Л –Њ–±–Њ –Љ–љ–µ, –Њ—В–і–∞–≤–∞—П—Б—М —Б–≤–Њ–µ–Љ—Г –Ь–∞–≤—А—Г –≤ —Б–њ–∞–ї—М–љ–µ —Б–Њ —Б–Ї–Њ—И–µ–љ–љ—Л–Љ –њ–Њ—В–Њ–ї–Ї–Њ–Љ –љ–∞ –≤—В–Њ—А–Њ–Љ —Н—В–∞–ґ–µ —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –і–Њ–Љ–∞. –Ш –Ь–∞–≤—А –Ј–∞—Б–љ—Г–ї –±—Л –≥–Њ—А–і—Л–є —В–µ–Љ, —З—В–Њ —Б–Љ–Њ–≥, –љ–∞–Ї–Њ–љ–µ—Ж, –і–Њ–≤–µ—Б—В–Є –µ—С –і–Њ –±–µ–ї–Њ–≥–Њ –Ї–∞–ї–µ–љ–Є—П вАФ –≥–ї—Г–њ—Л–є –њ–Њ—В–µ–љ—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л–є —А–Њ–≥–Њ–љ–Њ—Б–µ—Ж.
–Э–µ –Ј–љ–∞—О –њ–Њ—З–µ–Љ—Г, –љ–Њ —В–µ–њ–µ—А—М –Љ–љ–µ —Н—В–Њ —Б–Њ–≤—Б–µ–Љ –љ–µ –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–љ–Њ.
–ѓ –Є–і—Г –Њ–±—А–∞—В–љ–Њ, –і–µ–ї–∞—П –≤–Є–і, —З—В–Њ –њ—Л—В–∞—О—Б—М –њ–Њ–Ј–≤–Њ–љ–Є—В—М, –љ–Њ —Б–≤—П–Ј–Є –љ–µ—В. –ѓ –љ–µ –Є—Й—Г —Б–ї—Г—З–∞–є–љ—Л—Е —Б–≤—П–Ј–µ–є.
вАФ –Э–µ –Љ–Њ–≥—Г –њ–Њ–≤–µ—А–Є—В—М, вАФ —Б–ї—Л—И—Г —П –ґ–µ–љ—Б–Ї–Є–є –≥–Њ–ї–Њ—Б –Ј–∞ —Б–њ–Є–љ–Њ–є.
–ѓ –љ–µ—А–µ—И–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –Њ–±–Њ—А–∞—З–Є–≤–∞—О—Б—М.
–Ц–µ–љ—Й–Є–љ–∞ —Б–Љ–Њ—В—А–Є—В –љ–∞ –Љ–µ–љ—П. –Ю–љ–∞ –Ї—А–∞—Б–Є–≤–Њ —Б–љ–Є–Љ–∞–µ—В –њ—А–∞–≤—Г—О –љ–Њ–≥—Г —Б –ї–µ–≤–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–ї–µ–љ–∞ –Є –≤—Л–њ—Г—Б–Ї–∞–µ—В —Б—В—А—Г–є–Ї—Г —Б–Є–Ј–Њ–≥–Њ –і—Л–Љ–∞, –Ј–∞—Б–µ—А–µ–±—А–Є–≤—И—Г—О—Б—П –≤ –љ–∞—Б—В—Г–њ–∞—О—Й–Є—Е —Б—Г–Љ–µ—А–Ї–∞—Е.
–Ю —З—С–Љ –Њ–љ–∞? –Ю –Ј–ї–Њ—Б—З–∞—Б—В–љ–Њ–Љ –њ–Є—Б—П–Ї–µ? –Ъ–∞–Ї –ґ–µ —Н—В–Њ –љ–∞–і–Њ–µ–ї–Њ!
вАФ –ѓ –љ–µ –Љ–Њ–≥—Г –њ–Њ–≤–µ—А–Є—В—М, –Ї–∞–Ї –±–µ–Ј–і–∞—А–љ–Њ —В—Л –њ—Л—В–∞–µ—И—М—Б—П –Љ–µ–љ—П –љ–µ –Ј–∞–Љ–µ—З–∞—В—М!
–Ю–љ–∞ –Ї–∞–њ—А–Є–Ј–љ–Њ –њ–Њ–і–ґ–Є–Љ–∞–µ—В –≥—Г–±—Л, –Ј–∞—В—П–≥–Є–≤–∞–µ—В—Б—П –Є –≤—Л–њ—Г—Б–Ї–∞–µ—В –µ—Й—С –Њ–і–љ—Г —Б—В—А—Г–є–Ї—Г –і—Л–Љ–∞.
"Mrs. Robinson, you're trying to seduce me. ArenвАЩt you?" вАФ —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї –±—Л –Љ–Њ–ї–Њ–і–Њ–є –Ф–∞—Б—В–Є–љ –•–Њ—Д—Д–Љ–∞–љ, –≥–ї—П–і—П –љ–∞ –љ–µ—С.
–ѓ —Б —В—А—Г–і–Њ–Љ –њ–µ—А–µ–љ–Њ—И—Г –ґ–µ–љ—Б–Ї–Њ–µ –Ї—Г—А–µ–љ–Є–µ. –ѓ –љ–µ–љ–∞–≤–Є–ґ—Г, –Ї–Њ–≥–і–∞ —В–∞–Ї –≤–Њ—В –≥—А—Г–±–Њ –≤—А—Л–≤–∞—О—В—Б—П –≤ –Љ–Њ–є –Љ–Є—А. –°–µ–≥–Њ–і–љ—П —П —Г–ґ–µ –±—Л–ї –Я–µ—В—А—Г—И–Ї–Њ–є –Є –љ–µ —Е–Њ—З—Г –Ј–∞–і–µ—А–ґ–Є–≤–∞—В—М—Б—П –≤ —Н—В–Њ–є —А–Њ–ї–Є –љ–Є –Љ–Є–љ—Г—В—Л.
вАФ –Я—А–Њ—Б—В–Є—В–µ. –Ь—Л –Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ—Л? вАФ –≥–Њ–≤–Њ—А—О —П —Е–Њ–ї–Њ–і–љ–Њ
вАФ –Ю! –Ф–∞ —В—Л –Є –њ—А–∞–≤–і–∞ –Љ–µ–љ—П –љ–µ —Г–Ј–љ–∞—С—И—М! –Э–µ—Г–ґ–µ–ї–Є —П —В–∞–Ї –Є–Ј–Љ–µ–љ–Є–ї–∞—Б—М –Ј–∞ –і–µ—Б—П—В—М –ї–µ—В?
–Ю–љ–∞ –≥–Є–±–Ї–Њ –≤—Б—В–∞—С—В —Б–Њ —Б–Ї–∞–Љ–µ–є–Ї–Є (—Б–Ї–∞–Љ–µ–є–Ї–∞ –љ–µ –Ї–∞—З–∞–µ—В—Б—П, —А–∞—Б—Б—В–∞–≤–∞—П—Б—М —Б –µ—С —В–µ–ї–Њ–Љ) –Є –і–µ–ї–∞–µ—В –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ —И–∞–≥–Њ–≤ –≤ –Љ–Њ—О —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Г.
вАФ –ѓ –Ј–љ–∞–ї–∞, —З—В–Њ –Ї–Њ–≥–і–∞-–љ–Є–±—Г–і—М —Г–≤–Є–ґ—Г —В–µ–±—П –Њ–њ—П—В—М, –љ–Њ, —З–µ—Б—В–љ–Њ, –љ–µ –Њ–ґ–Є–і–∞–ї–∞, —З—В–Њ —В—Л –љ–µ —Г–Ј–љ–∞–µ—И—М –Љ–µ–љ—П. –Ш–ї–Є —В—Л –≤—Б—С-—В–∞–Ї–Є –њ—А–Є–Ї–Є–і—Л–≤–∞–µ—И—М—Б—П? –Э–µ –±–Њ–є—Б—П, —П –љ–µ —Г—Б—В—А–Њ—О —Б—Ж–µ–љ—Л вАФ —Н—В–Њ –љ–µ –≤ –Љ–Њ–Є—Е –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–∞—Е.
вАФ –Ь–∞—А–Є–љ–∞?
–С—А–µ–і –Ї–∞–Ї–Њ–є-—В–Њ! –Э–µ—В, –Ї–∞–Ї–Є–µ-—В–Њ "–Ґ—С–Љ–љ—Л–µ –∞–ї–ї–µ–Є"!
¬ЂвАФ –Э–∞–і–µ–ґ–і–∞! –Ґ—Л? вАФ —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї –Њ–љ —В–Њ—А–Њ–њ–ї–Є–≤–Њ. вАФ –ѓ, –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є –Р–ї–µ–Ї—Б–µ–µ–≤–Є—З, вАФ –Њ—В–≤–µ—В–Є–ї–∞ –Њ–љ–∞.¬ї
вАФ –Ґ—Л? –Ч–і–µ—Б—М? –Ґ—Л –ґ–µ —Г–µ—Е–∞–ї–∞ –≤ –Р–њ—Б—В–µ–є—ВвА¶
вАФ –£–µ—Е–∞–ї–∞ –Є –≤–µ—А–љ—Г–ї–∞—Б—М. –Ь–Њ–є –Љ—Г–ґ –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї —А–∞–±–Њ—В—Г –≤ –У–∞—А–≤–∞—А–і–µ. –Ь—Л —Г–ґ–µ –і–≤–∞ –Љ–µ—Б—П—Ж–∞ –ґ–Є–≤—С–Љ –Ј–і–µ—Б—М. –Ф–Њ–Љ –Ї—Г–њ–Є–ї–Є. –Т –Э—М—О—В–Њ–љ–µ.
вАФ –ѓ —В–µ–±—П, –њ—А–∞–≤–і–∞, –љ–µ —Г–Ј–љ–∞–ї. –Х–є-–±–Њ–≥—Г! –Ґ—Л —В–∞–Ї–∞—П —Н—Д—Д–µ–Ї—В–љ–∞—П –ґ–µ–љ—Й–Є–љ–∞ —Б—В–∞–ї–∞.вА¶ –Э—Г, —В–Њ –µ—Б—В—М —В—Л –Є –±—Л–ї–∞, –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, –љ–Њ —Б–µ–є—З–∞—Б –µ—Й—С –њ–Њ—Е–Њ—А–Њ—И–µ–ї–∞. –Ъ–∞–Ї-—В–Њ —А–∞—Б—Ж–≤–µ–ї–∞, вАФ —П —Б–Њ–≤—Б–µ–Љ —Б–Љ—Г—Й–∞—О—Б—М, –љ–µ –Ј–љ–∞—О, —З—В–Њ —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М.
вАФ –Р —П —В–µ–±—П —Б—А–∞–Ј—Г —Г–Ј–љ–∞–ї–∞, –Ї–∞–Ї —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Г–≤–Є–і–µ–ї–∞.
–Ґ–µ–њ–µ—А—М –Њ–љ–∞ —В–Њ–ґ–µ –Љ–Њ–ї—З–Є—В.
вАФ –Ф–∞, вАФ –≥–Њ–≤–Њ—А—О —П. вАФ –Ф–µ—Б—П—В—М –ї–µ—В.
–ѓ –≤—Б—С –±–Њ–ї—М—И–µ –Є –±–Њ–ї—М—И–µ –Њ—Й—Г—Й–∞—О —Б–µ–±—П –±—Г–љ–Є–љ—Б–Ї–Є–Љ –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–µ–Љ –Р–ї–µ–Ї—Б–µ–µ–≤–Є—З–µ–Љ.
вАФ –Э—Г, –і–∞–≤–∞–є –ґ–µ —Б—П–і–µ–Љ, –њ–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–Є–Љ, вАФ —В–Њ—А–Њ–њ–ї—О—Б—М —П. вАФ –Ъ–∞–Ї —В—Л –ґ–Є–ї–∞ –≤—Б–µ —Н—В–Є –≥–Њ–і—Л, —З—В–Њ –і–µ–ї–∞–ї–∞?
вАФ –І—В–Њ –і–µ–ї–∞–ї–∞? вАФ –Њ–љ–∞ –љ–µ –і–≤–Є–≥–∞–µ—В—Б—П —Б –Љ–µ—Б—В–∞. вАФ –†–Њ–і–Є–ї–∞ —А–µ–±—С–љ–Ї–∞. –Ь–∞–ї—М—З–Є–Ї–∞. –С–µ–љ–і–ґ–Є–Ї–∞. –Ґ—Л –і–∞–ґ–µ –љ–µ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—И—М, –Ї–∞–Ї —П –њ–Њ—Б–ї–µ —Н—В–Њ–≥–Њ –њ–Њ–њ—А–∞–≤–Є–ї–∞—Б—М! –Я–Њ—В–Њ–Љ –Њ–њ—П—В—М –њ–Њ—Е—Г–і–µ–ї–∞ (–Њ–љ–∞ –њ—А–Њ–≤–Њ–і–Є—В —А—Г–Ї–∞–Љ–Є –њ–Њ –±—С–і—А–∞–Љ).
вАФ –Р —Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –ї–µ—В –С–µ–љ–і–ґ–Є–Ї—Г?
вАФ –І—Г—В—М –±–Њ–ї—М—И–µ –і–µ–≤—П—В–Є, вАФ —Б –Є–≥—А–Є–≤—Л–Љ –≤—Л–Ј–Њ–≤–Њ–Љ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В –Ь–∞—А–Є–љ–∞. вАФ –Ъ—Г–і—А—П–≤—Л–є, —Е–Њ—А–Њ—И–µ–љ—М–Ї–Є–є —З–µ—А–љ–Њ–≤–Њ–ї–Њ—Б—Л–є –Љ–∞–ї—М—З–Є–Ї.
–І—В–Њ-—В–Њ —Г–і–∞—А—П–µ—В –Љ–µ–љ—П –њ—А—П–Љ–Њ –≤ —Б–µ—А–і—Ж–µ. –°–µ—А–і—Ж–µ —Б–±–Є–≤–∞–µ—В—Б—П —Б —А–Є—В–Љ–∞, –Ј–∞–Љ–Є—А–∞–µ—В.
вАФ –Ш—Б–њ—Г–≥–∞–ї—Б—П?! вАФ –ґ–µ–љ—Й–Є–љ–∞ —Б–Љ–µ—С—В—Б—П. вАФ –®—Г—З—Г! –Х–Љ—Г –њ–Њ—З—В–Є —Б–µ–Љ—М. –І–µ—А–µ–Ј –і–≤–µ –љ–µ–і–µ–ї–Є —Б–µ–Љ—М –±—Г–і–µ—В.
–°–µ—А–і—Ж–µ –Њ—В–њ—Г—Б—В–Є–ї–Њ.
–Ю–љ–∞ —Б–љ–Њ–≤–∞ –Љ–Њ–ї—З–Є—В. –ѓ —В–Њ–ґ–µ. –Ю–љ–∞ –љ–µ –≤—Л–і–µ—А–ґ–Є–≤–∞–µ—В –њ–∞—Г–Ј—Л.
вАФ –Ґ—Л –њ–Є—И–µ—И—М —З—В–Њ-–љ–Є–±—Г–і—М? –Ш–ї–Є –Ј–∞–±—А–Њ—Б–Є–ї?
вАФ –Ґ–∞–Ї, –љ–µ–Љ–љ–Њ–≥–ЊвА¶ –Т—А–µ–Љ–µ–љ–Є –љ–µ—В.
вАФ –†–∞–±–Њ—В–∞–µ—И—М?
вАФ –Я—А–Њ–≥—А–∞–Љ–Љ–Є—А—Г—О –њ–Њ—В–Є—Е–Њ–љ—М–Ї—Г.
–Ь—Л –Њ–њ—П—В—М –Љ–Њ–ї—З–Є–Љ.
вАФ –Ґ–Њ–≥–і–∞, –њ–Њ–Љ–љ–Є—И—М, вАФ –љ–∞ —В—А–∞–Љ–≤–∞–є–љ–Њ–є –Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї–µ? –£–≥–Њ–ї –Т–∞—И–Є–љ–≥—В–Њ–љ –Є –Ъ–Њ–Љ–∞–љ–≤–µ–ї—Д? вАФ –Ь–∞—А–Є–љ–∞ –љ–µ–Њ–њ—А–µ–і–µ–ї—С–љ–љ–Њ –Љ–∞—И–µ—В —А—Г–Ї–Њ–є –≤ —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Г –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–∞–≥–∞–µ–Љ–Њ–≥–Њ –њ–µ—А–µ–Ї—А—С—Б—В–Ї–∞. вАФ –Ґ—Л —Б–Њ–≤–µ—А—И–Є–ї –±–Њ–ї—М—И—Г—О, —Б—В—А–∞—И–љ—Г—О –Њ—И–Є–±–Ї—Г. –≠—В–Њ —П —В–µ–±–µ —В–Њ—З–љ–Њ –≥–Њ–≤–Њ—А—О.
–ѓ –њ–Њ–ґ–Є–Љ–∞—О –њ–ї–µ—З–∞–Љ–Є вАФ —Б–Њ–≤–µ—А—И–Є–ї –Њ—И–Є–±–Ї—Г? –Э–µ –≤ –њ–µ—А–≤—Л–є –Є –љ–µ –≤ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–є —А–∞–Ј.
вАФ –ѓ –Ј–љ–∞—О.
вАФ –Ь–љ–µ –±—Л–ї–Њ –Њ—З–µ–љ—М –±–Њ–ї—М–љ–Њ. –Ю—З–µ–љ—М.
вАФ –ѓ –Ј–љ–∞—О. –Я—А–Њ—Б—В–Є...
вАФ –Ю —З—С–Љ —В—Л? –°—В–Њ–ї—М–Ї–Њ –ї–µ—В –њ—А–Њ—И–ї–Њ. –Ф–∞–≤–љ–Њ —Г–ґ–µ –≤—Б—С —А–∞–≤–љ–ЊвА¶ –Р –Љ–Њ–≥–ї–Є –±—Л –±—Л—В—М —Б—З–∞—Б—В–ї–Є–≤—Л...
вАФ –Ф–∞. –°–Ї–Њ—А–µ–µ –≤—Б–µ–≥–Њ...
–Ь—Л –Њ–њ—П—В—М –Љ–Њ–ї—З–Є–Љ. –ѓ –Љ–∞—И–Є–љ–∞–ї—М–љ–Њ —Б–Љ–Њ—В—А—О –љ–∞ —Б–≤–Њ–є —В–µ–ї–µ—Д–Њ–љ.
вАФ –Ц–і—С—И—М –Ј–≤–Њ–љ–Ї–∞?
вАФ –Ф–∞ –љ–µ—В, вАФ —Е–Њ—В–µ–ї –њ–Њ–Ј–≤–Њ–љ–Є—В—М, –∞ –Ј–і–µ—Б—М —Б–≤—П–Ј–Є –љ–µ—В.
вАФ –Ф–∞—И—М –Љ–љ–µ —Б–≤–Њ–є –љ–Њ–Љ–µ—А, –Є–ї–Є...?
вАФ –Ъ–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, –і–∞–Љ, вАФ —А–∞–і—Г—О—Б—М —П –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В–Є –Ј–∞–Ї–Њ–љ—З–Є—В—М —А–∞–Ј–≥–Њ–≤–Њ—А. вАФ –Ч–∞–њ–Є—Б—Л–≤–∞–є. –£ —В–µ–±—П –µ—Б—В—М, —З–µ–Љ –Є –Ї—Г–і–∞ –Ј–∞–њ–Є—Б–∞—В—М?
вАФ –ѓ –≤ —Б–≤–Њ–є —В–µ–ї–µ—Д–Њ–љ –≤–≤–µ–і—Г. –Ф–Є–Ї—В—Г–є. –Ь–Њ–ґ–µ—В, –Ї–Њ–≥–і–∞-–љ–Є–±—Г–і—М —В–µ–±–µ –њ–Њ–Ј–≤–Њ–љ—О вАФ –≤—Б—В—А–µ—В–Є–Љ—Б—П, –њ–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–Є–Љ?
вАФ –Ь–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—МвА¶
–ѓ –і–Є–Ї—В—Г—О —Б–≤–Њ–є –љ–Њ–Љ–µ—А, –Є –Љ—Л –Є–і—С–Љ –њ–Њ –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—О –Ї –і–Њ–Љ—Г. –У—А—Г–њ–њ–∞ –ї—О–і–µ–є –≤—Л–≤–∞–ї–Є–≤–∞–µ—В—Б—П –љ–∞–Љ –љ–∞–≤—Б—В—А–µ—З—Г.
вАФ –Ґ–Њ–ї—П, –Є–і–Є —Б—О–і–∞! –Я—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—И—М, –≤—Б—В—А–µ—В–Є–ї–∞ —Б—В–∞—А–Њ–≥–Њ –Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ–Њ–≥–Њ вАФ –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Г—З–Є–ї–Є—Б—М –∞–љ–≥–ї–Є–є—Б–Ї–Њ–Љ—Г –љ–∞ West Street —Б—В–Њ –ї–µ—В –љ–∞–Ј–∞–і, –Є —Б —В–µ—Е –њ–Њ—А –љ–µ –≤–Є–і–µ–ї–Є—Б—М.
вАФ –Ь–∞—А–Є–љ–∞, –∞ —П –Ї–∞–Ї —А–∞–Ј —В–µ–±—П –Є—Й—Г. –Э–∞–Љ –њ–Њ—А–∞ –і–Њ–Љ–Њ–є.
вАФ –Ф–∞, –і–Њ—А–Њ–≥–Њ–є.
–ѓ –≤—Е–Њ–ґ—Г –≤ –і–Њ–Љ, —Б–∞–ґ—Г—Б—М –≤ –Ї—А–µ—Б–ї–Њ —Г –±–Њ–ї—М—И–Њ–≥–Њ –∞–Ї–≤–∞—А–Є—Г–Љ–∞.
–†–∞–Ј–љ–Њ—Ж–≤–µ—В–љ—Л–µ —А—Л–±–Ї–Є –Љ–µ–ї—М–Ї–∞—О—В –≤ —П—А–Ї–Њ–Љ —Б–≤–µ—В–µ –ї–∞–Љ–њ—Л вАФ –Љ–µ–ґ–і—Г –і–Є–Ї–Њ–≤–Є–љ–љ—Л–Љ–Є –≤–Њ–і–Њ—А–Њ—Б–ї—П–Љ–Є, –Ї–∞–Љ–µ—И–Ї–∞–Љ–Є, —А–∞–Ї—Г—И–Ї–∞–Љ–Є –Є –Њ–±–ї–Њ–Љ–Ї–∞–Љ–Є "–Ј–∞—В–Њ–љ—Г–≤—И–µ–≥–Њ –Ї–Њ—А–∞–±–ї—П" (–њ–ї–∞—Б—В–Є–Ї–Њ–≤–Њ–≥–Њ –њ–Є—А–∞—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б—Г–і–љ–∞ –≤–µ–ї–Є—З–Є–љ–Њ–є —Б –ї–∞–і–Њ–љ—М).
–Ь–Њ—С –±–Њ—А–Њ–і–∞—В–Њ–µ –ї–Є—Ж–Њ –Њ—В—А–∞–ґ–∞–µ—В—Б—П –≤ —Б—В–µ–Ї–ї–µ –∞–Ї–≤–∞—А–Є—Г–Љ–∞, –Є—Б–Ї–∞–ґ—С–љ–љ–Њ–µ, –љ–Њ —Г–Ј–љ–∞–≤–∞–µ–Љ–Њ–µ. –Э–∞–Є–±–Њ–ї–µ–µ –ї—О–±–Њ–њ—Л—В–љ–∞—П —А—Л–±–Ї–∞ –њ—А–Є—Б—В–∞–ї—М–љ–Њ —Б–Љ–Њ—В—А–Є—В –љ–∞ –Љ–µ–љ—П, –њ—Л—В–∞—П—Б—М –њ–Њ–љ—П—В—М, —А–∞–Ј–≥–ї—П–і–µ—В—М.
–Ф–∞, –і–∞, –ї—Г–њ–Њ–≥–ї–∞–Ј–∞—П, вАФ —П –Є –µ—Б—В—М —В–Њ—В —Б–∞–Љ—Л–є –≤–µ–ї–Є–Ї–Є–є –Є –±–Њ—А–Њ–і–∞—В—Л–є. –Я–ї—Л–≤–Є, —Б–Ї–∞–ґ–Є –Є–Љ –≤—Б–µ–Љ –љ–∞ —Б–≤–Њ—С–Љ –љ–µ–Љ–Њ–Љ —А—Л–±—М–µ–Љ —П–Ј—Л–Ї–µ, —З—В–Њ –≤–Є–і–µ–ї–∞ –Љ–µ–љ—П –Є —Б–ї—Л—И–∞–ї–∞ –Љ–Њ–є –≥—А–Њ–Љ–Њ–≥–ї–∞—Б–љ—Л–є –њ—А–Є–Ї–∞–Ј.
–°–Ї–∞–ґ–Є –Є–Љ –≤—Б–µ–Љ, —З—В–Њ —П –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–∞–ї –њ–ї–Њ–і–Є—В—М—Б—П –Є —А–∞–Ј–Љ–љ–Њ–ґ–∞—В—М—Б—П. –Я–Њ—Е–Њ–ґ–µ, –≤ —Н—В–Њ–Љ –Є –µ—Б—В—М —Б–Љ—Л—Б–ї –≤—Б–µ–є —Н—В–Њ–є –±–µ—Б—Б–Љ—Л—Б–ї–Є—Ж—Л.
–≥. –С–Њ—Б—В–Њ–љ
–Я—Г–±–ї–Є–Ї–∞—Ж–Є—П –њ–Њ–і–≥–Њ—В–Њ–≤–ї–µ–љ–∞ –°–µ–Љ—С–љ–Њ–Љ –Ъ–∞–Љ–Є–љ—Б–Ї–Є–Љ.