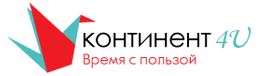–Я–Ю–Ф –°–Ґ–£–Ъ –Ъ–Ю–Ы–Х–°

–Ґ—А–Њ–µ –Љ—Г–ґ—З–Є–љ –і–µ–ї–Њ–≤–Є—В–Њ –Њ—Б–≤–∞–Є–≤–∞–ї–Є –≤–∞–≥–Њ–љ–љ–Њ–µ –Ї—Г–њ–µ, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ –Є–Љ –њ—А–µ–і—Б—В–Њ—П–ї–Њ –њ—А–Њ–≤–µ—Б—В–Є –≤–µ—З–µ—А, –љ–Њ—З—М –Є —Г—В—А–Њ —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–µ–≥–Њ –і–љ—П: —Б–љ–Є–Љ–∞–ї–Є –≥–∞–ї—Б—В—Г–Ї–Є, –і–Њ—Б—В–∞–≤–∞–ї–Є –Є–Ј –і–Њ—А–Њ–ґ–љ—Л—Е —Б—Г–Љ–Њ–Ї –Є –њ–Њ—А—В—Д–µ–ї–µ–є —В–∞–њ–Њ—З–Ї–Є, —В—Г–∞–ї–µ—В–љ—Л–µ –њ—А–Є–љ–∞–і–ї–µ–ґ–љ–Њ—Б—В–Є –Є —В—А–µ–љ–Є—А–Њ–≤–Њ—З–љ—Л–µ –Ї–Њ—Б—В—О–Љ—Л. –Ф–Њ –Њ—В–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –њ–Њ–µ–Ј–і–∞ –Њ—Б—В–∞–≤–∞–ї–Є—Б—М —Б—З–Є—В–∞–љ–љ—Л–µ –Љ–Є–љ—Г—В—Л, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ, –µ—Й–µ —Б–Њ–≤—Б–µ–Љ –љ–µ–і–∞–≤–љ–Њ, –њ—А–Є–≤–Њ–і–Є–ї–Є –њ–∞—Б—Б–∞–ґ–Є—А–Њ–≤ –≤ —А–∞–і–Њ—Б—В–љ–Њ–µ –Є –≤–Њ–ї–љ—Г—О—Й–µ–µ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є–µ: –≤–Њ—В-–≤–Њ—В —А–∞–Ј–і–∞–і—Г—В—Б—П —Б–≤–Є—Б—В–Ї–Є, –≥–і–µ-—В–Њ –≤–њ–µ—А–µ–і–Є —Б–Њ—Б—В–∞–≤–∞ –±–Њ–ї—М—И–Њ–є, –љ–µ—Г–Ї–ї—О–ґ–Є–є –њ–∞—А–Њ–≤–Њ–Ј –Њ–Ї—Г—В–∞–µ—В—Б—П –њ–∞—А–Њ–Љ, –≤–Ј–і—А–Њ–≥–љ—Г—В –Є –њ—А–Є–і—Г—В –≤ –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є–µ –Ї–Њ–ї–µ—Б–∞, –ї–Њ–Љ–∞—П —Б—Г—Б—В–∞–≤—Л –Ї—А–Є–≤–Њ—И–Є–њ–Њ–≤вА¶ –Ъ–∞–Ї–∞—П-—В–Њ –ґ–µ–ї–µ–Ј–љ–Њ–і–Њ—А–Њ–ґ–љ–∞—П –Љ–Є—Б—В–Є–Ї–∞, –њ–Њ—З—В–Є –Ї–∞–Ї –њ–µ—А–µ–і –≤–Ј–ї–µ—В–Њ–Љ —Б–∞–Љ–Њ–ї–µ—В–∞. –Р —Б–µ–є—З–∞—Б вАФ –≤–∞–≥–Њ–љ—Л –њ–Њ—В—П–љ–µ—В, –∞, –Љ–Њ–ґ–µ—В, –љ–∞—З–љ–µ—В —В–Њ–ї–Ї–∞—В—М –≤ —Б–њ–Є–љ—Г —Н–ї–µ–Ї—В—А–Њ–≤–Њ–Ј –≤ —З–Є—Б—В–µ–љ—М–Ї–Њ–є, –∞—Н—А–Њ–і–Є–љ–∞–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є –≤—Л–≤–µ—А–µ–љ–љ–Њ–є –Њ–±–Њ–ї–Њ—З–Ї–µ, —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ—Л–є –Є —Н—Д—Д–µ–Ї—В–Є–≤–љ—Л–є, —А–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ—Л–є –Ї–∞–Ї–Њ–є-—В–Њ, –њ—А–µ—Б–љ—Л–є, –њ—А–Њ–Ј–∞–Є—З–µ—Б–Ї–Є–євА¶ –Ш –љ–Є–Ї–∞–Ї–Є—Е –Љ–∞—И–Є–љ–Є—Б—В–Њ–≤ –≤ –њ—А–Њ–Љ–∞—Б–ї–µ–љ–љ—Л—Е —Д–Њ—А–Љ–µ–љ–љ—Л—Е —Д—Г—А–∞–ґ–Ї–∞—Е, –љ–Є–Ї–∞–Ї–Є—Е —З—Г–Љ–∞–Ј—Л—Е –Ї–Њ—З–µ–≥–∞—А–Њ–≤, –њ–Њ–і–±—А–∞—Б—Л–≤–∞—О—Й–Є—Е —Г–≥–Њ–ї—М –≤ –Њ–≥–љ–µ–і—Л—И–∞—Й–µ–µ –ґ–µ—А–ї–Њ —В–Њ–њ–Ї–ЄвА¶ –Ш –љ–Є–Ї–∞–Ї–Њ–є —А–Њ–Љ–∞–љ—В–Є–Ї–Є, –љ—Г, –∞–±—Б–Њ–ї—О—В–љ–Њ –љ–Є–Ї–∞–Ї–Њ–є! –Р —А–Њ–Љ–∞–љ—В–Є–Ї–Є —Е–Њ—В–µ–ї–Њ—Б—М, –µ–є –≤—Б–µ —Б–µ—А–і—Ж–∞ –њ–Њ–Ї–Њ—А–љ—Л, –∞ —В–µ–Љ, –≤ –Ї—Г–њ–µ, —Е–Њ—В–µ–ї–Њ—Б—М –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ. –Т—Б–µ —В—А–Є –њ–∞—Б—Б–∞–ґ–Є—А–∞ –і—А—Г–ґ–љ–Њ –њ–Њ–і–Њ—И–ї–Є –Є–ї–Є –њ–µ—А–µ—И–∞–≥–љ—Г–ї–Є –њ–Њ—А–Њ–≥ –Њ–њ–∞—Б–љ–Њ–≥–Њ —Б–Њ—А–Њ–Ї–∞–ї–µ—В–љ–µ–≥–Њ –≤–Њ–Ј—А–∞—Б—В–∞, –Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–∞ –Љ—Г–ґ—З–Є–љ –љ–∞–њ–∞–і–∞–µ—В —Б—В—А–∞–љ–љ–Њ–µ –Є –Њ–њ–∞—Б–љ–Њ–µ —В–Њ–Љ–ї–µ–љ–Є–µ –і—Г—И–Є, –Є –Њ–љ–∞ —В—А–µ–±—Г–µ—В —З–µ–≥–Њ-—В–Њ –љ–µ–Њ–±—Л—З–љ–Њ–≥–Њ, –љ–µ–њ—А–µ–і—Б–Ї–∞–Ј—Г–µ–Љ–Њ–≥–Њ, –Ї–∞–Ї–Є—Е-—В–Њ –љ–µ–Њ–ґ–Є–і–∞–љ–љ—Л—Е –≤—Б—В—А–µ—З, –њ–Њ–і–≤–Є–≥–Њ–≤, –±–µ–Ј—Г–Љ–љ–Њ–є –≤—Б–њ—Л—И–Ї–Є —З—Г–≤—Б—В–≤, —О–љ–Њ—И–µ—Б–Ї–Њ–є –Њ—В–≤–∞–≥–Є –Є –±–µ–Ј—А–∞—Б—Б—Г–і—Б—В–≤–∞, –∞ —А–∞–Ј—Г–Љ –і–∞ –њ–µ—З–µ–љ—М, –і–∞ –Є–Ј—К—П–љ—Л –≤ —И–µ–≤–µ–ї—О—А–µ, –і–∞ —Б–µ–Љ–µ–є–љ—Л–µ –њ—А–Њ–±–ї–µ–Љ—Л, –љ–µ –≥–Њ–≤–Њ—А—П —Г–ґ–µ –Њ –њ—А–Њ—З–µ–Љ, –њ–Њ–і—Б–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—О—В, —З—В–Њ –љ–∞–і–µ–ґ–і –љ–∞ —В–∞–Ї–Є–µ —А–∞–і—Г–ґ–љ—Л–µ –≤—Б–њ—Л—И–Ї–Є, —Б–њ–Њ—Б–Њ–±–љ—Л–µ –Њ–Ј–∞—А–Є—В—М –Є—Е —Е—А–Њ–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є —Б–µ—А—Л–є –≥–Њ—А–Є–Ј–Њ–љ—В, –Њ—Б—В–∞–µ—В—Б—П –≤—Б–µ –Љ–µ–љ—М—И–µ –Є –Љ–µ–љ—М—И–µ. –Ф–∞, –Љ–Њ–ґ–µ—В, —Н—В–Њ –Є –Ї –ї—Г—З—И–µ–Љ—ГвА¶
вАФ –°–ї—Г—И–∞–є, –Р—А—В–µ–Љ –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤–Є—З, –љ–µ—Г–ґ–µ–ї–Є —В–∞–Ї –Є –њ–Њ–µ–і–µ–Љ –≤—В—А–Њ–µ–Љ? вАФ –Њ–±—А–∞—В–Є–ї—Б—П –Њ–і–Є–љ –Є–Ј –њ–∞—Б—Б–∞–ґ–Є—А–Њ–≤ –Ї —Б–≤–Њ–µ–Љ—Г —В–Њ–≤–∞—А–Є—Й—Г.
вАФ –Э–µ –і—Г–Љ–∞—О, –Т–Њ–ї–Њ–і—П, вАФ –Њ—В–≤–µ—В–Є–ї —В–Њ—В. вАФ –Т—Б–µ –ґ–µ –ї–µ—В–Њ, —О–≥–Њ-–Ј–∞–њ–∞–і–љ–Њ–µ –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ, —В—А–∞–љ—Б–њ–Њ—А—В –љ–µ —Б–њ—А–∞–≤–ї—П–µ—В—Б—П. –Ю—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ –њ–Њ –њ—П—В–љ–Є—Ж–∞–Љ. –Ґ—Л —З—В–Њ вАФ –љ–µ –њ–Њ–Љ–љ–Є—И—М, –Ї–∞–Ї –љ–∞–Љ –±–Є–ї–µ—В—Л —З–µ—А–µ–Ј –Љ–Є–љ–Є—Б—В–µ—А—Б–Ї—Г—О –±—А–Њ–љ—О –і–Њ–±—Л–≤–∞–ї–Є, –і–∞ –Є —В–Њ —Б —В—А—Г–і–Њ–Љ. –Т—Л, –љ–∞–≤–µ—А–љ–Њ–µ, —В–Њ–ґ–µ –љ–∞–Љ—Г—З–Є–ї–Є—Б—М, –њ–Њ–Ї–∞ –і–Њ—Б—В–∞–ї–Є, вАФ –Њ–±—А–∞—В–Є–ї—Б—П –Њ–љ –Ї —В—А–µ—В—М–µ–Љ—Г –њ–Њ–њ—Г—В—З–Є–Ї—Г.
вАФ –Э–µ—В, —П вАФ –Љ–Њ—Б–Ї–≤–Є—З. –Т–Њ—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–ї—Б—П –Ї–∞—Б—Б–Њ–є –њ—А–µ–і–≤–∞—А–Є—В–µ–ї—М–љ—Л—Е –Ј–∞–Ї–∞–Ј–Њ–≤ –Є –Ї—Г–њ–Є–ї –Ј–∞ –Љ–µ—Б—П—Ж —Б—А–∞–Ј—Г –≤ –і–≤–∞ –Ї–Њ–љ—Ж–∞. –Ю—З–µ–љ—М —Г–і–Њ–±–љ–Њ.
вАФ –Р –Ї –љ–∞–Љ –≤ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–Њ–≤–Ї—Г –µ–і–µ—В–µ?
вАФ –Т –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–Њ–≤–Ї—Г.
–Т —Н—В–Њ –≤—А–µ–Љ—П —Б–Њ—Б—В–∞–≤ –≤–Ј–і—А–Њ–≥–љ—Г–ї –≤—Б–µ–Љ —Б–≤–Њ–Є–Љ –Љ–љ–Њ–≥–Њ—З–ї–µ–љ–Є—Б—В—Л–Љ —В–µ–ї–Њ–Љ –Є –Љ–µ–і–ї–µ–љ–љ–Њ –њ–Њ–њ–Њ–ї–Ј –≤–њ–µ—А–µ–і.
вАФ –Я–Њ–µ—Е–∞–ї–Є, вАФ —Е–Њ—А–Њ–Љ —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї–Є –њ–∞—Б—Б–∞–ґ–Є—А—Л.
вАФ –Я–Њ-–µ-—Е–∞-–ї–Є, –њ–Њ-–µ-—Е–∞-–ї–ЄвА¶ вАФ –њ–Њ–і—В–≤–µ—А–і–Є–ї–Є –Ї–Њ–ї–µ—Б–∞, –љ–∞–Ї–∞—В—Л–≤–∞—П—Б—М –љ–∞ —Б—В—Л–Ї–Є —А–µ–ї—М—Б–Њ–≤.
–Ш –≤–і—А—Г–≥ –≤ –њ—А–Њ–µ–Љ–µ –і–≤–µ—А–Є –њ–Њ—П–≤–Є–ї–∞—Б—М –і–µ–≤—Г—И–Ї–∞, –Є —В–µ—Б–љ–Њ–µ, –≥—А—П–Ј–љ–Њ–≤–∞—В–Њ–µ –Ї—Г–њ–µ –≤–љ–µ–Ј–∞–њ–љ–Њ –њ—А–µ–Њ–±—А–∞–Ј–Є–ї–Њ—Б—М, —Б—В–∞–ї–Њ –њ—А–Њ—Б—В–Њ—А–љ–µ–µ, –љ–∞—А—П–і–љ–µ–µ, —Б–≤–µ—В–ї–µ–µ, –Є –≤–Њ–Њ–±—Й–µ –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М, —З—В–Њ —В—Г–і–∞ –≤–Њ—А–≤–∞–ї—Б—П –љ–∞—Б—Л—Й–µ–љ–љ—Л–є –Њ–Ј–Њ–љ–Њ–Љ –≤–Њ–Ј–і—Г—Е –≤–њ–µ—А–µ–Љ–µ—И–Ї—Г —Б –∞—А–Њ–Љ–∞—В–Њ–Љ —Е–≤–Њ–є–љ–Њ–≥–Њ, –њ—А–Њ–љ–Є–Ј–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ —Б–Њ–ї–љ—Ж–µ–Љ –ї–µ—Б–∞ –Є –Ј–∞–Ј–≤—Г—З–∞–ї–Њ –њ—В–Є—З—М–µ —А–∞–Ј–љ–Њ–≥–Њ–ї–Њ—Б–Є–µ, —Б—В—А–µ–Ї–Њ—В–∞–љ–Є–µ —Б—В–µ–њ–љ—Л—Е –Ї—Г–Ј–љ–µ—З–Є–Ї–Њ–≤, —И–µ–ї–µ—Б—В –Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ—А–Є–±–Њ—П. –Ш –і–∞–ґ–µ –Ї–Њ–ї–µ—Б–∞ –≤ –Є–Ј—Г–Љ–ї–µ–љ–Є–Є –љ–∞—З–∞–ї–Є –≤—Л—Б—В—Г–Ї–Є–≤–∞—В—М: ¬Ђ–Р—Е-–∞—Е-–∞—Е-–∞—Е!¬ї –Ш –≤ —Г–љ–Є—Б–Њ–љ –Є–Љ –Ј–∞—Б—В—Г—З–∞–ї–Є —Б–µ—А–і—Ж–∞ —В—А–µ—Е —Б–Њ—А–Њ–Ї–∞–ї–µ—В–љ–Є—Е –њ–∞—Б—Б–∞–ґ–Є—А–Њ–≤, –ґ–∞–ґ–і—Г—Й–Є—Е —А–Њ–Љ–∞–љ—В–Є–Ї–Є: ¬Ђ–Р—Е, –∞—Е, –∞—ЕвА¶¬ї –Т–Њ—В —В–∞–Ї, –ґ–і–µ—И—М, –ґ–і–µ—И—М —З—Г–і–∞, –∞ –Њ–љ–Њ —Б–∞–Љ–Њ —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П, —Б–ї–Њ–≤–љ–Њ –±–Њ–≥ –Є–Ј –Љ–∞—И–Є–љ—Л, –Є —Б—В–Њ–Є—В, —А–∞—Б–Ї—А–∞—Б–љ–µ–≤—И–µ–µ—Б—П, –љ–∞ –њ–Њ—А–Њ–≥–µ —В–≤–Њ–µ–≥–Њ –Ї—Г–њ–µ, –њ—Л—В–∞—П—Б—М –≤–Њ—Б—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В—М –і—Л—Е–∞–љ–Є–µ, –±—Г–і—В–Њ –њ–Њ—Б–ї–µ –±—Л—Б—В—А–Њ–≥–Њ –±–µ–≥–∞, —Б–Љ–Њ—В—А–Є—В —И–Є—А–Њ–Ї–Њ —А–∞—Б–Ї—А—Л—В—Л–Љ–Є –±–ї–µ—Б—В—П—Й–Є–Љ–Є –≥–ї–∞–Ј–∞–Љ–Є –Є –њ–Њ—В—А—П—Е–Є–≤–∞–µ—В –Ї–Њ–њ–љ–Њ–є —З–µ—А–љ—Л—Е –≤–Њ–ї–Њ—Б. –Э—Г, —З—Г–і–Њ –Є —З—Г–і–Њ!
–Ш –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ, –і–µ–≤—Г—И–Ї–∞ –±—Л–ї–∞ —З—Г–і–Њ –Ї–∞–Ї —Е–Њ—А–Њ—И–∞, –≤—Б—П –Ї–∞–Ї–∞—П-—В–Њ –љ–Њ–≤–∞—П, —Б–≤–µ–ґ–∞—П, –∞—А–Њ–Љ–∞—В–љ–∞—П, –≤–Ї—Г—Б–љ–∞—П, –Є—Б–Ї—А—П—Й–∞—П—Б—П –≤–µ—Б–µ–ї—М–µ–Љ, —А–∞–і–Њ—Б—В—М—О, —Н–љ–µ—А–≥–Є–µ–є –Є –≥–Њ—В–Њ–≤–љ–Њ—Б—В—М—О –њ–Њ–і–µ–ї–Є—В—М—Б—П —Н—В–Є–Љ —Б–Њ –≤—Б–µ–Љ —Б–≤–µ—В–Њ–Љ. –Э–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ —Б–µ–Ї—Г–љ–і –Њ–љ–∞ –Љ–Њ–ї—З–∞ —Б—В–Њ—П–ї–∞ –≤ –і–≤–µ—А—П—Е, —И–Є—А–Њ–Ї–Њ —Г–ї—Л–±–∞—П—Б—М, –Є –љ–µ–≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ –љ–µ —Г–ї—Л–±–љ—Г—В—М—Б—П –µ–є –≤ –Њ—В–≤–µ—В. –Р –њ–Њ—В–Њ–Љ –Ј–∞–≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї–∞, —З—Г—В—М —И–µ–њ–µ–ї—П–≤—П, –Є —Н—В–Њ –њ—А–Є–і–∞–≤–∞–ї–Њ –µ–µ —А–µ—З–Є –љ–µ—Г–ї–Њ–≤–Є–Љ–Њ —В–µ–њ–ї–Њ–µ, –љ—Г, –њ—А–Њ—Б—В–Њ –і–Њ–Љ–∞—И–љ–µ–µ, –Є –≤ —В–Њ –ґ–µ –≤—А–µ–Љ—П –≤–Њ–ї–љ—Г—О—Й–µ–µ —Б–≤–Њ–µ–Њ–±—А–∞–Ј–Є–µ, –∞ –µ—Й–µ –њ–Њ–і–Ї—Г–њ–∞—О—Й—Г—О, —З—Г—В—М –ї–Є –љ–µ –±–µ–Ј–Ј–∞—Й–Є—В–љ—Г—О –і–µ—В—Б–Ї–Њ—Б—В—М.
вАФ –Ч–і—А–∞–≤—Б—В–≤—Г–є—В–µ, —Б–њ—Г—В–љ–Є–Ї–Є! –Ъ–∞–Ї —П —Г—Б–њ–µ–ї–∞, —Б–∞–Љ–∞ —Г–і–Є–≤–ї—П—О—Б—М. –Ч–∞ –Ї–≤–∞—А—В–∞–ї –і–Њ –≤–Њ–Ї–Ј–∞–ї–∞ –Љ–Њ–µ —В–∞–Ї—Б–Є –Ј–∞–≥–ї–Њ—Е–ї–Њ. –Р –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є –≤ –Њ–±—А–µ–Ј. –Э—Г, —П —Б—Г–Љ–Ї—Г –≤ —А—Г–Ї–Є –Є –±–µ–≥–Њ–Љ! –Т—Б–Ї–Њ—З–Є–ї–∞ –≤ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–є –≤–∞–≥–Њ–љ, —Г–ґ–µ –њ–Њ–µ–Ј–і –і–≤–Є–љ—Г–ї—Б—П, –Є —З–µ—А–µ–Ј –њ–Њ–ї—Б–Њ—Б—В–∞–≤–∞ –Ї –≤–∞–Љ –њ—А–Њ–±–Є—А–∞–ї–∞—Б—М. –Р –Є–і—В–Є —Б–Ї–≤–Њ–Ј—М –≤–∞–≥–Њ–љ—Л, –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ, –Њ–±—Й–Є–µ, –і–∞ –µ—Й–µ —Б —В–∞–Ї–Є–Љ –±–∞–≥–∞–ґ–Њ–Љ вАФ –±—А-—А-—А! вАФ –≤—Б–њ–Њ–Љ–љ–Є—В—М –ґ—Г—В–Ї–Њ. –Э—Г, —Б–ї–∞–≤–∞ –С–Њ–≥—Г, –і–Њ–±—А–∞–ї–∞—Б—М. –£ –Љ–µ–љ—П –і–µ—Б—П—В–Њ–µ –Љ–µ—Б—В–Њ, —Н—В–Њ –≤–µ—А—Е–љ—П—П –њ–Њ–ї–Ї–∞, —Б–ї–µ–≤–∞, –і–∞?
вАФ –Э—Г, —З—В–Њ –≤—Л, вАФ –≤–Њ–Ј—А–∞–Ј–Є–ї –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А. вАФ –Ъ—В–Њ –ґ–µ –і–Њ–њ—Г—Б—В–Є—В, —З—В–Њ–± —В–∞–Ї–∞—П –і–µ–≤—Г—И–Ї–∞ –љ–∞ –≤–µ—А—Е–Њ—В—Г—А—Г –Ї–∞—А–∞–±–Ї–∞–ї–∞—Б—М? –Ь—Л вАФ –Љ—Г–ґ—З–Є–љ—Л, –Є–ї–Є –≥–і–µ?
вАФ –Ь—Г–ґ—З–Є–љ—Л, –Љ—Г–ґ—З–Є–љ—Л, –Ї—В–Њ –±—Л —Б–Њ–Љ–љ–µ–≤–∞–ї—Б—ПвА¶ –Р –≥–і–µ вАФ –њ–Њ—Б–Љ–Њ—В—А–Є–Љ, вАФ —А–∞—Б—Б–Љ–µ—П–ї–∞—Б—М –Њ–љ–∞, –±—Г–і—В–Њ –±—Г—Б—Л —Б —А–∞–Ј–Њ—А–≤–∞–љ–љ–Њ–є –љ–Є—В–Ї–Є —А–∞—Б—Б—Л–њ–∞–ї–∞ –њ–Њ —Б–µ—А–µ–±—А—П–љ–Њ–Љ—Г –±–ї—О–і—Г. вАФ –Э—Г, —Б–њ–∞—Б–Є–±–Њ. –Ф–∞–≤–∞–є—В–µ, –Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ–Є—В—М—Б—П. –Ь–µ–љ—П –Ј–Њ–≤—Г—В –Ы–∞–љ–∞.
вАФ –Р—А—В–µ–Љ –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤–Є—З, –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –Р—А—В–µ–ЉвА¶ –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—АвА¶ –Ы–µ–Њ–љ–Є–івА¶ –Р –Ы–∞–љ–∞ вАФ —Н—В–Њ —Б–Њ–Ї—А–∞—Й–µ–љ–љ–Њ–µ –°–≤–µ—В–ї–∞–љ–∞?
вАФ –Ґ–Њ—З–љ–Њ. –£ –љ–∞—Б –≤ –њ–µ—А–≤–Њ–Љ –Ї–ї–∞—Б—Б–µ —З–µ—В—Л—А–µ –°–≤–µ—В–ї–∞–љ—Л –±—Л–ї–Њ. –Ґ–∞–Ї, –Ї–Њ–≥–і–∞ —Г—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Є—Ж–∞ —Б–Ї–∞–ґ–µ—В: ¬Ђ–Ъ –і–Њ—Б–Ї–µ –њ–Њ–є–і–µ—В –°–≤–µ—В–∞вА¶¬ї, —Г –≤—Б–µ—Е —З–µ—В—Л—А–µ—Е —Б–µ—А–і—Ж–µ –≤ –њ—П—В–Ї–∞—Е, –њ–Њ–Ї–∞ —Д–∞–Љ–Є–ї–Є—О —Г—Б–ї—Л—И–Є—И—М. –Т–Њ—В —П –Є –њ–Њ–Љ–µ–љ—П–ї–∞ –Є–Љ—П. –†–Њ–і–Є—В–µ–ї–Є –≤ —Г–ґ–∞—Б –њ—А–Є—И–ї–Є. –Я–Њ–і—А—Г–ґ–Ї–Є –Ј–∞–Є–Ї–∞–ї–Є—Б—М. –°–Ї–∞–Ј–∞—В—М –њ–Њ –њ—А–∞–≤–і–µ, —Б–љ–∞—З–∞–ї–∞ —Б–∞–Љ–Њ–є —Б—В—А–∞–љ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ, –њ–Њ—В–Њ–Љ –њ—А–Є–≤—Л–Ї–ї–∞.
вАФ –Р –Ј–∞—З–µ–Љ –≤ –Ъ–Є–µ–≤ –µ–і–µ—В–µ?
вАФ –Т –Њ—В–њ—Г—Б–Ї. –£ –Љ–µ–љ—П —В–∞–Љ —В–µ—В—П –Ы–Є–Ј–∞, –Љ–∞–Љ–Є–љ–∞ —Б–µ—Б—В—А–∞, –љ–∞ –†—Г—Б–∞–љ–Њ–≤–Ї–µ –ґ–Є–≤–µ—В, —Н—В–Њ —В–∞–Ї–∞—П –Љ–µ—Б—В–љ–∞—П –Т–µ–љ–µ—Ж–Є—П, –Ї–Є–µ–≤–ї—П–љ–µ –Ј–љ–∞—О—В. ¬Ђ–Я—А–Є–µ–Ј–ґ–∞–є, вАФ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В, вАФ –Ы–∞–љ–Ї–∞. –С—Г–і–µ—И—М –Њ—В–і—Л—Е–∞—В—М, –Ї–∞–Ї –љ–∞ –і–∞—З–µ, —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Б —В—Г–∞–ї–µ—В–Њ–Љ, –≥–Њ—А—П—З–µ–є –≤–Њ–і–Њ–є, –ї–Є—Д—В–Њ–Љ –Є —В–µ–ї–µ—Д–Њ–љ–Њ–Љ. –Р –≤—Б—О –љ–Њ—З—М –≤ –Ї—Г—Б—В–∞—Е –љ–∞–і –Ї–∞–љ–∞–ї–Њ–Љ —Б–Њ–ї–Њ–≤—М–Є –њ–Њ—О—В¬ї. –Э—Г, —П —Б —В–µ—В–Ї–Є–љ–Њ–≥–Њ —А–∞–Ј—А–µ—И–µ–љ–Є—П –њ–Њ–і—А—Г–ґ–Ї—Г –њ—А–Є—Е–≤–∞—В–Є–ї–∞ –Ј–∞ –Ї–Њ–Љ–њ–∞–љ–Є—О вАФ –Є –≤–њ–µ—А–µ–і!
вАФ –Ш —Б —В–µ–ї–µ—Д–Њ–љ–Њ–Љ? вАФ –њ–Њ–Є–љ—В–µ—А–µ—Б–Њ–≤–∞–ї—Б—П –Љ–Њ—Б–Ї–≤–Є—З –Ы–µ–Њ–љ–Є–і.
вАФ –Р –≤—Л –Љ–љ–µ –њ–Њ–Ј–≤–Њ–љ–Є—В—М —Е–Њ—В–Є—В–µ? вАФ —Б–љ–Њ–≤–∞ —А–∞—Б—Б—Л–њ–∞–ї–∞ –Њ–љ–∞ –Ј–≤–Њ–љ–Ї–Њ –њ—А—Л–≥–∞—О—Й–Є–µ –±—Г—Б—Л –њ–Њ —Б–µ—А–µ–±—А—Г. вАФ –Я–Њ–ґ–∞–ї—Г–є—Б—В–∞, –±—Г–і—Г —А–∞–і–∞. –Ч–∞–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–є—В–µ –Є–ї–Є –Ј–∞–њ–Є—Б—Л–≤–∞–є—В–µ –љ–Њ–Љ–µ—А: —В—А–Є –њ—П—В–µ—А–Ї–Є, –∞ –і–∞–ї—М—И–µ –Њ–і–Є–љ, –і–µ–≤—П—В—М, –њ—П—В—М–і–µ—Б—П—В —И–µ—Б—В—М. –Ь–љ–µ-—В–Њ –ї–µ–≥–Ї–Њ –Ј–∞–њ–Њ–Љ–љ–Є—В—М: –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–µ —Ж–Є—Д—А—Л вАФ –≥–Њ–і –Љ–Њ–µ–≥–Њ —А–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П. –Ю–є, вАФ —Б–њ–Њ—Е–≤–∞—В–Є–ї–∞—Б—М –Њ–љ–∞, вАФ —П –≤—Л–і–∞–ї–∞ —Б–≤–Њ–є –≤–Њ–Ј—А–∞—Б—ВвА¶
вАФ –Э—Г, –≤–∞–Љ –љ–µ—Б—В—А–∞—И–љ–Њ, –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г —З—В–ЊвА¶ вАФ –љ–∞—З–∞–ї –Р—А—В–µ–Љ, –Њ–і–љ–∞–Ї–Њ –Њ–±—К—П—Б–љ–Є—В—М, –њ–Њ—З–µ–Љ—Г, –µ–Љ—Г –љ–µ —Г–і–∞–ї–Њ—Б—М: –њ–Њ—П–≤–Є–ї–∞—Б—М –њ—А–Њ–≤–Њ–і–љ–Є—Ж–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –Ј–∞–±—А–∞–ї–∞ –±–Є–ї–µ—В—Л –Є –і–µ–љ—М–≥–Є –Ј–∞ –њ–Њ—Б—В–µ–ї–Є, –њ—А–µ–і—Г–њ—А–µ–і–Є–≤, —З—В–Њ —З–∞–є –±—Г–і–µ—В —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —З–µ—А–µ–Ј —З–∞—Б.
вАФ –Ґ—Л –њ–Њ—Б—В–Њ–є, –њ–Њ—Б—В–Њ–є, –Ї—А–∞—Б–∞–≤–Є—Ж–∞ –Љ–Њ—П, вАФ –њ—А–Њ–њ–µ–ї –Ы–µ–Њ–љ–Є–і, вАФ –њ–Њ—И—Г—И—Г–Ї–∞—В—М—Б—П –љ–∞–і–Њ, –њ–Њ—Б–µ–Ї—А–µ—В–љ–Є—З–∞—В—М, –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В—М—Б—П.
–Ъ–∞–Ї –Њ–љ–Є –і–Њ–≥–Њ–≤–∞—А–Є–≤–∞–ї–Є—Б—М, –љ–µ–Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ, –љ–Њ –≤ –Ї—Г–њ–µ –Њ–љ –≤–µ—А–љ—Г–ї—Б—П, –і–µ—А–ґ–∞ –љ–Њ–Ј–і—А–µ–≤–∞—В—Л–є, —Б–Њ–ї–љ–µ—З–љ–Њ –ґ–µ–ї—В—Л–є –ї–Є–Љ–Њ–љ –Є —З–µ—В—Л—А–µ —А—О–Љ–Ї–Є –Љ—Г—В–љ–Њ–≥–Њ —Б—В–µ–Ї–ї–∞.
вАФ –Э–µ —Е—А—Г—Б—В–∞–ї—М, –љ–Њ –љ–Є—З–µ–≥–Њ, —Б–Њ–є–і–µ—В. вАФ –Ы–µ–Њ–љ–Є–і –і–Њ—Б—В–∞–ї –Є–Ј —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –њ–Њ—А—В—Д–µ–ї—П –±—Г—В—Л–ї–Ї—Г –Ї–Њ–љ—М—П–Ї–∞ ¬Ђ–Р—А–Љ–µ–љ–Є—П¬ї –Є —А–∞–Ј–ї–Є–ї –µ–≥–Њ –њ–Њ —А—О–Љ–Ї–∞–Љ. вАФ –І–µ—Б—В–љ–Њ –≥–Њ–≤–Њ—А—П, –≤–µ–Ј –µ–≥–Њ –і–ї—П –њ–Њ–ї—М–Ј—Л –і–µ–ї–∞ –≤ –њ–Њ–і–∞—А–Њ–Ї –Њ–і–љ–Њ–Љ—Г –Ї–Є–µ–≤—Б–Ї–Њ–Љ—Г –љ–∞–±–Њ–±—Г. –Э–Њ –њ–Њ —В–∞–Ї–Њ–Љ—Г —Б–ї—Г—З–∞—О, —З–µ—А—В —Б –љ–Є–Љ–Є –Њ–±–Њ–Є–Љ–Є: –Є –і–µ–ї–Њ–Љ, –Є –љ–∞–±–Њ–±–Њ–ЉвА¶
вАФ –Ш–Ј–≤–Є–љ–Є—В–µ: —П –Ї–Њ–љ—М—П–Ї –љ–µ –њ—М—О, вАФ —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї–∞ –і–µ–≤—Г—И–Ї–∞, вАФ –њ—А–Є–≥—Г–±–ї—О —А–∞–Ј–≤–µ —З—В–Њ –і–ї—П –Ї–Њ–Љ–њ–∞–љ–Є–Є. –Р –≤–Њ—В –Є –Љ–Њ–є –≤–Ї–ї–∞–і –≤ –Њ–±—Й–Є–є —Б—В–Њ–ї: –њ–Є—А–Њ–ґ–Ї–Є: —Н—В–Є —Б –Љ—П—Б–Њ–Љ, —Н—В–Є —Б –њ–Њ–≤–Є–і–ї–Њ–Љ, –∞ —Н—В–Є —Б –Љ–∞–Ї–Њ–Љ. –°–∞–Љ–∞ –њ–µ–Ї–ї–∞! –Э—Г —З—В–Њ, –≤–Ї—Г—Б–љ–Њ?
вАФ –Х—Й–µ –Ї–∞–Ї! вАФ —Е–Њ—А–Њ–Љ –Њ—В–≤–µ—В–Є–ї–Є –µ–µ —Б–њ—Г—В–љ–Є–Ї–Є, –Є –Ї–Њ–ї–µ—Б–∞ –Њ—В–Њ–Ј–≤–∞–ї–Њ—Б—М —Б –Ј–∞–≤–Є—Б—В—М—О: ¬Ђ–Х—Й–µ –Ї–∞–Ї вАФ –µ—Й–µ –Ї–∞–Ї вАФ –µ—Й–µ –Ї–∞–ЇвА¶¬ї
вАФ –Р –≥–і–µ –≤–∞—И–∞ –њ–Њ–і—А—Г–≥–∞? –Ь–Њ–ґ–µ—В, –µ–µ –Ї –љ–∞–Љ –њ—А–Є–≥–ї–∞—Б–Є—В—М? вАФ –њ—А–Њ–≥–ї–Њ—В–Є–≤ –њ—П—В—Л–є –њ–Њ —Б—З–µ—В—Г –њ–Є—А–Њ–ґ–Њ–Ї, —Б–њ—А–Њ—Б–Є–ї –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А.
вАФ –Ш, –њ—А–∞–≤–і–∞, –≥–і–µ –Њ–љ–∞? вАФ –њ–Њ–і—Е–≤–∞—В–Є–ї–Є –µ–≥–Њ —Б–њ—Г—В–љ–Є–Ї–Є.
вАФ –Р –≤–∞–Љ –Љ–µ–љ—П –Љ–∞–ї–Њ? вАФ –Є–Ј—Г–Љ–Є–ї–∞—Б—М –Є, –Ї–∞–ґ–µ—В—Б—П, –і–∞–ґ–µ –Њ–±–Є–і–µ–ї–∞—Б—М –і–µ–≤—Г—И–Ї–∞. вАФ –Э—Г, –Љ—Г–ґ—З–Є–љ—Л, –љ—Г, –∞–≥—А–µ—Б—Б–Њ—А—Л, –≤—Б–µ—Е –≤–∞–Љ —Б—А–∞–Ј—Г –њ–Њ–і–∞–≤–∞–є! –Т—Л –±—Л –ї—Г—З—И–µ –њ–Њ–Є–љ—В–µ—А–µ—Б–Њ–≤–∞–ї–Є—Б—М: ¬Ђ–Я–Њ—З–µ–Љ—Г —П –Ї –љ–µ–є –љ–µ –Є–і—Г?¬ї –Р –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г, —З—В–Њ –Ј–і–µ—Б—М –Ї–Њ–Љ–њ–∞–љ–Є—П —Е–Њ—А–Њ—И–∞—П. –Ґ–∞–Ї, –Љ–Њ–ґ–µ—В, –Є —Г –љ–µ–µ –љ–µ —Е—Г–ґ–µ. –£–ґ –Ї–Њ–Љ—Г —З—В–Њ –і–Њ—Б—В–∞–ї–Њ—Б—М. –Ъ–∞–ґ–і–Њ–Љ—Г —Б–≤–Њ–µ.
–Э–∞—Б—В—Г–њ–Є–ї–Њ –љ–µ–ї–Њ–≤–Ї–Њ–µ –Љ–Њ–ї—З–∞–љ–Є–µ, –Є —З—В–Њ–±—Л –љ–∞—А—Г—И–Є—В—М –µ–≥–Њ, –Р—А—В–µ–Љ —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї:
вАФ –Э—Г, —З—В–Њ –≤—Л, –Ы–∞–љ–Њ—З–Ї–∞. –Ю–љ –љ–µ –≤ —В–Њ–Љ —Б–Љ—Л—Б–ї–µ, –Є–љ–Њ–≥–і–∞ –±—Л–≤–∞–µ—В, —З—В–Њ —Е–Њ—З–µ—В—Б—П –≤–µ—Б–µ–ї—Л–Љ –љ–∞—Б—В—А–Њ–µ–љ–Є–µ–Љ —Б–Њ –≤—Б–µ–Љ–Є –њ–Њ–і–µ–ї–Є—В—М—Б—П, –≤–Њ—В –Є –≤—Б–њ–Њ–Љ–љ–Є–ї–Є –Њ –≤–∞—И–µ–є –њ–Њ–і—А—Г–≥–µ: –≤–і—А—Г–≥ –µ–є —В–∞–Љ —Б–Ї—Г—З–љ–Њ. вАФ –Ш –Њ—В–≤–ї–µ–Ї–∞—П –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ –Њ—В –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї—И–µ–є –љ–µ–ї–Њ–≤–Ї–Њ—Б—В–Є, —Б–њ—А–Њ—Б–Є–ї: вАФ –Р —З–µ–Љ –≤—Л –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞–µ—В–µ—Б—М? –†–∞–±–Њ—В–∞–µ—В–µ, —Г—З–Є—В–µ—Б—М?
вАФ –Ш —В–Њ, –Є –і—А—Г–≥–Њ–µ. –ѓ —А–∞–±–Њ—В–∞—О –≤ –±–Њ–ї—М–љ–Є—Ж–µ –њ—А–Њ—Ж–µ–і—Г—А–љ–Њ–є —Б–µ—Б—В—А–Њ–є: –±–∞–љ–Ї–Є, —Г–Ї–Њ–ї—Л, –≥–Њ—А—З–Є—З–љ–Є–Ї–ЄвА¶ –Я–Є—П–≤–Ї–Є —Б—В–∞–≤–ї—О, вАФ –і–Њ–±–∞–≤–Є–ї–∞ –Њ–љ–∞ —Б—В—А–∞—И–љ—Л–Љ –≥–Њ–ї–Њ—Б–Њ–Љ. вАФ –Т–Є–і–µ–ї–Є –Ї–Њ–≥–і–∞-–љ–Є–±—Г–і—М —Н—В–Є—Е –Ї—А–Њ–≤–Њ—Б–Њ—Б–Њ–≤? –Р —Г—З—Г—Б—М –≤ –Ј–∞–Њ—З–љ–Њ–ЉвА¶
вАФ –Т –Љ–µ–і–Є—Ж–Є–љ—Б–Ї–Њ–Љ, –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ?
вАФ –Э–Є –Ј–∞ —З—В–Њ! –Э–µ —Е–Њ—З—Г –≤—Б—О –ґ–Є–Ј–љ—М —Б –±–Њ–ї—М–љ—Л–Љ–Є –≤–Њ–Ј–Є—В—М—Б—П, –Ї–∞–њ—А–Є–Ј—Л –Є—Е –≤—Л–љ–Њ—Б–Є—В—М, –ґ–∞–ї–Њ–±—Л —Б–ї—Г—И–∞—В—М. –Ч–і–µ—Б—М –њ—А–Є–Ј–≤–∞–љ–Є–µ –љ—Г–ґ–љ–Њ, –Њ—Б–Њ–±—Л–µ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–∞: –Љ–Є–ї–Њ—Б–µ—А–і–Є–µ, —Б–Њ—Б—В—А–∞–і–∞–љ–Є–µ, —В–Њ-—Б–µ, –∞ —Г –Љ–µ–љ—П –Є—Е –љ–µ—В, —З—В–Њ –і–µ–ї–∞—В—М, –µ—Б–ї–Є –С–Њ–≥ –љ–µ –і–∞–ї... –Ъ–∞–ґ–і–Њ–Љ—Г —Б–≤–Њ–µ, вАФ –њ–Њ–≤—В–Њ—А–Є–ї–∞ –Њ–љ–∞. вАФ –Р —П —Г—З—Г—Б—М –≤ –Є–љ—П–Ј–µ: –∞–љ–≥–ї–Є–є—Б–Ї–Є–є —П–Ј—Л–Ї, –∞ –њ–Њ—В–Њ–Љ –≤–Њ–Ј—М–Љ—Г –і–Њ–њ–Њ–ї–љ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ —Д—А–∞–љ—Ж—Г–Ј—Б–Ї–Є–є –Є–ї–Є –Є—Б–њ–∞–љ—Б–Ї–Є–є, –µ—Й–µ –љ–µ —А–µ—И–Є–ї–∞.
вАФ –Я–Њ—З–µ–Љ—Г –љ–µ –љ–µ–Љ–µ—Ж–Ї–Є–є?
вАФ –Э–µ –ї—О–±–ї—О —П –µ–≥–Њ. –У—А—Г–±—Л–є –Њ–љ –Ї–∞–Ї–Њ–є-—В–Њ, —Б–Њ–ї–і–∞—Д–Њ–љ—Б–Ї–Є–є.
вАФ –Ь–Њ–ґ–љ–Њ –њ–Њ–і—Г–Љ–∞—В—М, —Е–µ—А—Г–≤–Є–Љ—Л –њ–Њ-–∞–љ–≥–ї–Є–є—Б–Ї–Є –њ–Њ—О—В.
вАФ –Ъ–∞–Ї —Е–µ—А—Г–≤–Є–Љ—Л, —П –љ–µ –Ј–љ–∞—О, –∞ —Б—В–Є—Е–Є –љ–∞ –љ–µ–Љ –Ј–≤—Г—З–∞—В –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–ї–µ–њ–љ–Њ. –Т–Њ—В –њ–Њ—Б–ї—Г—И–∞–є—В–µ.
Then hate me thou wilt, if ever, now.
Now while the world is bent my deeds to cross,
Join with the spite of Fortune, make me bow,
And do not drop in for an after-loss.
–≠—В–Њ –®–µ–Ї—Б–њ–Є—А, —Б–Њ–љ–µ—В –љ–Њ–Љ–µ—А 90, –љ–∞–≤–µ—А–љ–Њ–µ, —Б–∞–Љ—Л–є –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–Є—В—Л–є. –Р –≤–Њ—В –Ю—Б–Ї–∞—А –£–∞–є–ї—М–і:
He did not wear his scarlet coat,
For blood and wine are red?
And blood and wine were on his hands,
When they found him the dead,
The poor dead woman whom he loved,
And murdered in her bad.
–Я—А–Є —З—В–µ–љ–Є–Є —Б—В–Є—Е–Њ–≤ –≥–Њ–ї–Њ—Б –µ–µ —Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–ї—Б—П –љ–Є–ґ–µ, –≥–ї—Г–±–ґ–µ, –Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ–µ–µ, –≤ –љ–µ–Љ —Б–ї—Л—И–∞–ї–Є—Б—М –≤–Є–Њ–ї–Њ–љ—З–µ–ї—М–љ—Л–µ —В–Њ–љ–∞, –∞ –і–Њ–≤–µ—А–Є—В–µ–ї—М–љ–∞—П —И–µ–њ–µ–ї—П–≤–Є–љ–Ї–∞ –Є—Б—З–µ–Ј–ї–∞, –Є –±—Л–ї–Њ –љ–µ–њ–Њ–љ—П—В–љ–Њ, —Б–Њ–Ј–љ–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ –ї–Є –і–µ–≤—Г—И–Ї–∞ –і–µ–ї–∞–µ—В —Н—В–Њ, –Є–ї–Є —З—Г–ґ–µ–Ј–µ–Љ–љ–∞—П —А–µ—З—М –≤–ї–∞—Б—В–љ–Њ –і–Є–Ї—В—Г–µ—В —Б—А–µ–і—Б—В–≤–∞ –і–ї—П —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –≤—Л—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П.
вАФ –Ъ—А–∞—Б–Є–≤–Њ? –Р –≤—Л –љ–∞—Б—З–µ—В —Е–µ—А—Г–≤–Є–Љ–Њ–≤ —Б–Њ–Љ–љ–µ–≤–∞–ї–Є—Б—М. –Р –≤–Њ—В –µ—Й–µ.
My uncle, matchless moral model,
When deathly ill, learned how to make
His friends respect him, bow and coddle вАФ
Of all his ploys, that takes the cake.
To others, this might teach a lesson;
But Lord above, IвАЩd feel such stress in
Having to sit there night and day,
Daring not once to step away.
–Э–µ—Г–ґ–µ–ї–Є –љ–µ —Г–Ј–љ–∞–ї–Є? –Ф–∞ —Н—В–Њ –ґ–µ ¬Ђ–Х–≤–≥–µ–љ–Є–є –Ю–љ–µ–≥–Є–љ¬ї –≤ –њ–µ—А–µ–≤–Њ–і–µ. –Ю–є, —А–µ–±—П—В–∞, –≥–Њ—А–µ –Љ–љ–µ —Б –≤–∞–Љ–Є, —Б–Њ–≤—Б–µ–Љ –≤—Л –Ј–∞—А–∞–±–Њ—В–∞–ї–Є—Б—М, –њ—А–µ–Ї—А–∞—Б–љ–Њ–µ –Ј–∞–±—Л–≤–∞—В—М –љ–∞—З–∞–ї–Є!
¬Ђ–†–µ–±—П—В–∞¬ї —Б–Љ—Г—В–Є–ї–Є—Б—М –Є –Њ–њ–µ—З–∞–ї–Є–ї–Є—Б—М: –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ, —З—В–Њ –Њ–љ–Є –≤ –ґ–Є–Ј–љ–Є –≤–Є–і—П—В, —А–∞–±–Њ—В–∞, —Б–µ–Љ—М—П, –і–Њ–Љ–∞—И–љ–Є–µ —Е–ї–Њ–њ–Њ—В—Л, –љ—Г, —В–µ–ї–µ–≤–Є–Ј–Њ—А, –≥–∞–Ј–µ—В–∞, –љ—Г, —Б –і—А—Г–Ј—М—П–Љ–Є –Є–љ–Њ–≥–і–∞ –њ–Њ—Б–Є–і–Є—И—М, –≤—Л–њ—М–µ—И—М, –њ—Г–ї—М–Ї—Г —А–∞—Б–њ–Є—И–µ—И—М, –љ–∞ —Д—Г—В–±–Њ–ї –њ–Њ–є–і–µ—И—М, —З—В–Њ–±—Л –Є–Ј –і–Њ–Љ—Г –≤—Л—А–≤–∞—В—М—Б—П –Є –∞–і—А–µ–љ–∞–ї–Є–љ —Б—В—А–∞–≤–Є—В—М вАФ –Є –≤—Б–µвА¶ –£–ґ–µ ¬Ђ–Х–≤–≥–µ–љ–Є—П –Ю–љ–µ–≥–Є–љ–∞¬ї –љ–∞ –∞–љ–≥–ї–Є–є—Б–Ї–Њ–Љ –љ–µ —А–∞—Б–њ–Њ–Ј–љ–∞–ї–Є, –∞, –≥–ї—П–і–Є—И—М, –µ—Й–µ —З–µ—А–µ–Ј –њ–∞—А—Г-—В—А–Њ–є–Ї—Г –ї–µ—В –Є –љ–∞ —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–Љ –±—Г–і–µ—В —В–Њ –ґ–µ —Б–∞–Љ–Њ–µ.
–І—В–Њ–±—Л —Г–є—В–Є –Њ—В –Љ—А–∞—З–љ—Л—Е –Љ—Л—Б–ї–µ–є, –љ–∞–ї–Є–ї–Є –њ–Њ –≤—В–Њ—А–Њ–є.
вАФ –Ф–∞–≤–∞–є—В–µ –љ–∞ –±—А—Г–і–µ—А—И–∞—Д—В, вАФ –њ—А–µ–і–ї–Њ–ґ–Є–ї –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А.
вАФ –Ґ–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–µ —Ж–µ–ї–Њ–≤–∞—В—М—Б—П! вАФ –≤—Б–њ–Њ–ї–Њ—И–Є–ї–∞—Б—М –Ы–∞–љ–∞.
вАФ –І—В–Њ –≤—Л, —З—В–Њ –≤—Л, –Ы–∞–љ—Г—Б—П, –љ–µ—В, –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ. –≠—В–Њ —В–∞–Ї, –і–ї—П –Ј–∞–Ї—А–µ–њ–ї–µ–љ–Є—П –і—А—Г–ґ–±—Л.
вАФ –Ы–∞–љ—Г—Б—ПвА¶ –і—А—Г–ґ–±—ЛвА¶ вАФ –њ—А–Њ—И–µ–њ—В–∞–ї–∞ –і–µ–≤—Г—И–Ї–∞. –Э–µ–Њ–ґ–Є–і–∞–љ–љ–Њ –≥—Г–±—Л –µ–µ –Ј–∞–і—А–Њ–ґ–∞–ї–Є, –∞ –≥–ї–∞–Ј–∞ –љ–∞–ї–Є–ї–Є—Б—М —Б–ї–µ–Ј–∞–Љ–Є.
вАФ –І—В–Њ, —З—В–Њ —Б –≤–∞–Љ–Є? вАФ –Ј–∞–≤–Њ–ї–љ–Њ–≤–∞–ї–Є—Б—М –Љ—Г–ґ—З–Є–љ—Л. вАФ –Т–∞–Љ –љ–µ—Е–Њ—А–Њ—И–Њ? –Ь–Њ–ґ–µ—В, —Б–њ—А–Њ—Б–Є—В—М —Г –њ—А–Њ–≤–Њ–і–љ–Є—Ж—Л –≤–∞–ї–µ—А—М—П–љ–Ї–Є?
вАФ –Э–µ—В, –љ–µ—В! вАФ —В—А—П—Е–љ—Г–ї–∞ –Њ–љ–∞ —Б–Љ–Њ–ї—П–љ—Л–Љ–Є –Ї—Г–і—А—П–Љ–Є. вАФ –Ґ–∞–Ї, –≤—Б–њ–Њ–Љ–љ–Є–ї–Њ—Б—МвА¶ –Р, –≥–ї—Г–њ–Њ—Б—В–Є! –£–ґ–µ –њ—А–Њ—И–ї–Њ. –Э–∞–ї–Є–≤–∞–є—В–µ.
–Ъ–Њ–≥–і–∞ –≤—Л–њ–Є–ї–Є, —Б—А–∞–Ј—Г –ґ–µ –њ–Њ—В–µ–њ–ї–µ–ї–Њ –љ–∞ —Б–µ—А–і—Ж–µ –Є —Б—В–∞–ї–Њ –≤–µ—Б–µ–ї–µ–µ, –∞ –±–µ—Б–µ–і–∞ –њ–Њ–Ї–∞—В–Є–ї–∞—Б—М –ї–µ–≥–Ї–Њ –Є, –Ї–∞–Ї –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В—Б—П, –љ–∞ –≤–Њ–ї—М–љ—Г—О —В–µ–Љ—Г. –Х–µ —Ж–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ—Л–Љ –Є —Б–∞–Љ—Л–Љ –∞–Ї—В–Є–≤–љ—Л–Љ —Г—З–∞—Б—В–љ–Є–Ї–Њ–Љ –њ–Њ-–њ—А–µ–ґ–љ–µ–Љ—Г –Њ—Б—В–∞–≤–∞–ї–∞—Б—М –Ы–∞–љ–∞. –£ –љ–µ–µ –±—Л–ї —Б—З–∞—Б—В–ї–Є–≤—Л–є –Є —А–µ–і–Ї–Є–є –і–∞—А: —Е–Њ—В—П –Њ–љ–∞ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї–∞ —Б–Њ –≤—Б–µ–Љ–Є —Б—А–∞–Ј—Г, –Ї–∞–ґ–і–Њ–Љ—Г –Є–Ј –µ–µ —Б–Њ–±–µ—Б–µ–і–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М, —З—В–Њ –Њ–љ–∞ –Њ–±—А–∞—Й–∞–µ—В—Б—П –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –Ї –љ–µ–Љ—Г –Є —Г–ї—Л–±–∞–µ—В—Б—П –µ–Љ—Г –±–Њ–ї—М—И–µ, —З–µ–Љ –і—А—Г–≥–Є–Љ. –Ш –њ–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –ї—О–±–Њ–є –Є–Ј –љ–Є—Е —З—Г–≤—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї —Б–≤–Њ–µ –њ—А–µ–≤–Њ—Б—Е–Њ–і—Б—В–≤–Њ –Є –њ–Њ–≥–ї—П–і—Л–≤–∞–ї –љ–∞ —Б–≤–Њ–Є—Е –њ–Њ–њ—Г—В—З–Є–Ї–Њ–≤ —З—Г—В—М —Б–≤—Л—Б–Њ–Ї–∞ –Є —Б–љ–Є—Б—Е–Њ–і–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ. –Ш –µ–µ –Њ–±—А–∞—Й–µ–љ–Є–µ ¬Ђ—А–µ–±—П—В–∞¬ї, –Є –љ–µ–њ—А–Є–љ—Г–ґ–і–µ–љ–љ—Л–є –њ–µ—А–µ—Е–Њ–і ¬Ђ–љ–∞ —В—Л¬ї –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—П–ї–Є –Ї–∞–ґ–і–Њ–Љ—Г —З—Г–≤—Б—В–≤–Њ–≤–∞—В—М —Б–µ–±—П –Љ–Њ–ї–Њ–і—Л–Љ, —Б—В—А–Њ–є–љ—Л–Љ –Є –љ–µ–Њ—В—А–∞–Ј–Є–Љ–Њ –≥–Њ–ї—Г–±–Њ–≥–ї–∞–Ј—Л–Љ. –Ш –Ј–∞–±—Л–≤–∞–ї–Њ—Б—М –≤—Б–µ –≥—А—Г—Б—В–љ–Њ–µ –Є –љ–µ–њ—А–Є—П—В–љ–Њ–µ: —А–∞–љ–Њ –њ–Њ—Б–µ–і–µ–≤—И–Є–µ –≤–Є—Б–Ї–Є, –Љ–Њ—А—Й–Є–љ–Ї–Є –≤–Њ–Ј–ї–µ –≥–ї–∞–Ј, –љ–Њ—О—Й–Є–µ –Ј—Г–±—Л –Є –∞—А—В–µ—А–Є–∞–ї—М–љ–Њ–µ –і–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ, —Б–Ї–∞—З—Г—Й–µ–µ –њ—А–Є –њ–µ—А–µ–Љ–µ–љ–µ –њ–Њ–≥–Њ–і—Л, –њ–µ—А–µ–њ–∞–ї–Ї–∞—Е —Б –ґ–µ–љ–Њ–є –Є–ї–Є –≤—Л–≤–Њ–ї–Њ—З–Ї–µ –Њ—В –љ–∞—З–∞–ї—М—Б—В–≤–∞вА¶ –Ш –Ї–∞–ґ–і—Л–є –≤–µ—А–Є–ї –Є —Г–±–µ–ґ–і–∞–ї—Б—П: –µ—Б—В—М –≤ –љ–µ–Љ —З—В–Њ-—В–Њ —В–∞–Ї–Њ–µ, —В–Њ –Њ—Б–Њ–±–Њ–µ –Љ—Г–ґ—Б–Ї–Њ–µ –љ–∞—З–∞–ї–Њ, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ —В–∞–Ї —Ж–µ–љ—П—В –ґ–µ–љ—Й–Є–љ—Л, –µ—Б–ї–Є –Њ–љ–Є, –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, —А—Г–±—П—В —Д–Є—И–Ї—Г –≤ –Љ—Г–ґ–Є–Ї–∞—Е вАФ –Ї–∞–Ї, –љ–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, —Н—В–∞ –Ы–∞–љ–∞вА¶
–С–µ—Б–µ–і–∞ –Ј–∞—В—П–љ—Г–ї–∞—Б—М –Ј–∞–њ–Њ–ї–љ–Њ—З—М, –њ–Њ–Ї–∞, –љ–∞–Ї–Њ–љ–µ—Ж, –і–µ–≤—Г—И–Ї–∞ —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї–∞:
вАФ –Т—Б–µ, —А–µ–±—П—В–∞! –Ш–Ј–≤–Є–љ–Є—В–µ, –љ–Њ —Г –Љ–µ–љ—П —Г–ґ–µ –≥–ї–∞–Ј–∞ —Б–ї–Є–њ–∞—О—В—Б—П. –Я–Њ–Ї—Г—А–Є—В–µ –≤ —В–∞–Љ–±—Г—А–µ –Љ–Є–љ—Г—В –њ—П—В–љ–∞–і—Ж–∞—В—М. –ѓ –њ–µ—А–µ–Њ–і–µ–љ—Г—Б—М –Є —Б–њ–∞—В—М –ї—П–≥—Г. –Ь–Њ–ґ–µ—В–µ –≤—Е–Њ–і–Є—В—М –±–µ–Ј —Б—В—Г–Ї–∞: –≤—Б–µ —А–∞–≤–љ–Њ –љ–µ —Г—Б–ї—Л—И—Г.
–Ш –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Љ—Г–ґ—З–Є–љ—Л –≤–µ—А–љ—Г–ї–Є—Б—М, –і–µ–≤—Г—И–Ї–∞ —Г–ґ–µ —Б–њ–∞–ї–∞, —Г—В–Ї–љ—Г–≤—И–Є—Б—М –љ–Њ—Б–Њ–Љ –≤ –њ–ї–∞—Б—В–Љ–∞—Б—Б–Њ–≤—Г—О –Њ–±–ї–Є—Ж–Њ–≤–Ї—Г –Ї—Г–њ–µ.
–Р –љ–∞–Ј–∞–≤—В—А–∞ –Њ–љ–∞, —Г–ґ–µ —Г—Б–њ–µ–≤ –њ–Њ–Љ—Л—В—М—Б—П, –њ—А–Є—З–µ—Б–∞—В—М—Б—П –Є –≤–Њ—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞—В—М—Б—П –Љ–∞–Ї–Є—П–ґ–µ–Љ, –љ–Њ –≤—Б–µ –µ—Й–µ –≤ –і–Њ–Љ–∞—И–љ–µ–Љ —Е–∞–ї–∞—В–µ, —А–∞–Ј–±—Г–і–Є–ї–∞ —Б–≤–Њ–Є—Е —Б–њ—Г—В–љ–Є–Ї–Њ–≤:
вАФ –Я–Њ—А–∞, —А–µ–±—П—В–∞! –Ъ–Є–µ–≤ –±–ї–Є–Ј–Ї–Њ. –Ш—И—М, —А–∞–Ј–Њ—Б–њ–∞–ї–Є—Б—М! –°–Ї–Њ—А–Њ —В—Г–∞–ї–µ—В—Л –Ј–∞–Ї—А–Њ—О—В, –њ—А–Њ–≤–Њ–і–љ–Є—Ж–∞ —Г–ґ–µ –њ—А–µ–і—Г–њ—А–µ–ґ–і–∞–ї–∞. –Ш –±–Є–ї–µ—В—Л –њ—А–Є–љ–µ—Б–ї–∞, –≤–Њ—В –Њ–љ–Є –љ–∞ —Б—В–Њ–ї–Є–Ї–µ –ї–µ–ґ–∞—В.
–Р –Ї–Њ–≥–і–∞ –і–Њ –Љ–µ—Б—В–∞ –њ—А–Є–±—Л—В–Є—П –Њ—Б—В–∞–≤–∞–ї–Є—Б—М —Б—З–Є—В–∞–љ–љ—Л–µ –Љ–Є–љ—Г—В—Л, –Ы–∞–љ–∞ –њ–Њ–њ—А–Њ—Б–Є–ї–∞:
вАФ –Я–Њ—Б—В–Њ–є—В–µ –љ–µ–Љ–љ–Њ–≥–Њ –≤ –Ї–Њ—А–Є–і–Њ—А–µ, —А–µ–±—П—В–∞. –ѓ –њ–µ—А–µ–Њ–і–µ–љ—Г—Б—М.
–Ь–Є–љ—Г—В —З–µ—А–µ–Ј –њ—П—В—М –Њ–љ–∞ –≤—Л—Б–Ї–Њ—З–Є–ї–∞ –Є–Ј –Ї—Г–њ–µ, –≤–Њ–ї–Њ—З–∞ —Б–≤–Њ—О —В—П–ґ–µ–ї—Г—О –і–Њ—А–Њ–ґ–љ—Г—О —Б—Г–Љ–Ї—Г.
вАФ –Т—Б–µ, —А–µ–±—П—В–∞, —П –њ–Њ–±–µ–ґ–∞–ї–∞. –Ь–љ–µ –±—Л –њ–Њ–і—А—Г–≥—Г –љ–µ –њ–Њ—В–µ—А—П—В—М, –Њ–љ–∞ –Ъ–Є–µ–≤–∞ –љ–µ –Ј–љ–∞–µ—ВвА¶ –Ф–Њ —Б–≤–Є–і–∞–љ–Є—П, —Б–њ—Г—В–љ–Є–Ї–Є. –°–њ–∞—Б–Є–±–Њ –Ј–∞ –Ї–Њ–Љ–њ–∞–љ–Є—О. –ѓ –њ—А–µ–Ї—А–∞—Б–љ–Њ –њ—А–Њ–≤–µ–ї–∞ –≤—А–µ–Љ—П. –Ф–∞—Б—В –С–Њ–≥, –µ—Й–µ –≤—Б—В—А–µ—В–Є–Љ—Б—П. –Р –њ–Њ–Ї–∞, —Е–Њ—В–Є—В–µ вАФ –Ј–≤–Њ–љ–Є—В–µ, —В–µ–ї–µ—Д–Њ–љ —П –Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї–∞. –Э—Г, good buy, boys!
–Ш –Ы–∞–љ–∞ –Є—Б—З–µ–Ј–ї–∞.
вАФ –Ф–∞-–∞-–∞, вАФ –њ–µ—З–∞–ї—М–љ–Њ –њ—А–Њ—В—П–љ—Г–ї –Р—А—В–µ–Љ. вАФ –Т—Б—П –љ–∞—И–∞ –ґ–Є–Ј–љ—М вАФ –≤—Б—В—А–µ—З–Є –Є —А–∞—Б—Б—В–∞–≤–∞–љ–Є—П, –Є —А–∞—Б—Б—В–∞–≤–∞–љ–Є–є –±–Њ–ї—М—И–µ, —З–µ–Љ –≤—Б—В—А–µ—З.
вАФ –І—В–Њ-—В–Њ –≤–∞—Б, –Р—А—В–µ–Љ –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤–Є—З, –љ–∞ –њ–Њ—Н–Ј–Є—О –њ–Њ—В—П–љ—Г–ї–Њ? вАФ –µ—Е–Є–і–љ–Њ —Б–њ—А–Њ—Б–Є–ї –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А. вАФ –Э–µ—Г–ґ–µ–ї–Є –Ы–∞–љ–Њ—З–Ї–∞ —В–∞–Ї –њ–Њ–≤–ї–Є—П–ї–∞? –Т–Њ—В –ґ–µ–љ–∞ –Ј–∞–Љ–µ—В–Є—В, –љ–µ –Њ–±–µ—А–µ—В–µ—Б—М. –°–Љ–Њ—В—А–Є—В–µ, –Њ–љ–∞ –±–Є–ї–µ—В –Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї–∞. –•–Њ—В—П –Ј–∞—З–µ–Љ –Њ–љ –µ–є? –≠—В–Њ –љ–∞–Љ –і–ї—П –Њ—В—З–µ—В–∞ –љ—Г–ґ–љ–Њ. вАФ –Ю–љ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–Є–ї —Б–≤–Њ–є –±–Є–ї–µ—В –≤ –±—Г–Љ–∞–ґ–љ–Є–Ї –Є –≤–і—А—Г–≥ —Г–і–Є–≤–ї–µ–љ–љ–Њ —Б–њ—А–Њ—Б–Є–ї: вАФ –Я–Њ–Ј–≤–Њ–ї—М—В–µ, –∞ –≥–і–µ –Љ–Њ–Є –і–µ–љ—М–≥–Є?
вАФ –У–і–µ –≤ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–Њ–≤–Ї–∞—Е –Љ—Г–ґ–Є–Ї–Є –і–µ–љ—М–≥–Є –Њ—Б—В–∞–≤–ї—П—О—В вАФ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ–µ –і–µ–ї–Њ, вАФ —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї –Р—А—В–µ–Љ –≤ –Њ—В–Љ–µ—Б—В–Ї—Г –Ј–∞ –њ—А–µ–і—Л–і—Г—Й—Г—О —А–µ–њ–ї–Є–Ї—Г. вАФ –Р –≤ –і–µ—В–∞–ї—П—Е —В–µ–±–µ –≤–Є–і–љ–µ–µ.
вАФ –Ґ—Л –њ–Њ–≥–Њ–і–Є —И—Г—В–Є—В—М! –ѓ –њ–Њ–Љ–љ—О, —Г –Љ–µ–љ—П –≤ –±—Г–Љ–∞–ґ–љ–Є–Ї–µ —А—Г–±–ї–µ–є –њ—П—В—М–і–µ—Б—П—В –ї–µ–ґ–∞–ї–Њ. –Ш –Ї–Њ–≥–і–∞ —П –Ј–∞ –њ–Њ—Б—В–µ–ї—М –њ–ї–∞—В–Є–ї, —П –Є—Е –≤–Є–і–µ–ї. –Р —В–µ–њ–µ—А—М —В–∞–Љ –њ—П—В–µ—А–Ї–∞, –Є –≤—Б–µвА¶ –Ф–∞ –≤—Л —Б–≤–Њ–Є –Ї–∞—А–Љ–∞–љ—Л –њ—А–Њ–≤–µ—А—М—В–µ!
вАФ –Ю–є, –Є —Г –Љ–µ–љ—П —В—А–Є —А—Г–±–ї—П –Њ—Б—В–∞–ї–Њ—Б—М! вАФ –∞—Е–љ—Г–ї –Р—А—В–µ–Љ.
вАФ –Ш —Г –Љ–µ–љ—П —В–Њ–ґ–µ —Б–∞–Љ–Њ–µ, вАФ –Њ—В–Њ–Ј–≤–∞–ї—Б—П –Љ–Њ—Б–Ї–≤–Є—З. вАФ –Т—Л-—В–Њ –і–Њ–Љ–Њ–є –µ–і–µ—В–µ, –∞ –Ї–∞–Ї —П –≤ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–Њ–≤–Ї–µ –ґ–Є—В—М –±—Г–і—Г? –Ґ—А–µ—И–Ї–∞, –њ—А–∞–≤–і–∞ –≤–Њ—ВвА¶ –Э–µ –Ј–∞–Љ–µ—В–Є–ї–∞, –∞ –Љ–Њ–ґ–µ—В, –љ–∞ —В–∞–Ї—Б–Є –Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї–∞, –і–Њ–±—А–∞—П –і—Г—И–∞вА¶ –Ш–ї–Є –Ј–∞ –Њ–±—Й–µ–љ–Є–µ –Ј–∞–њ–ї–∞—В–Є–ї–∞вА¶ –Ъ–∞–Ї –Љ—Г–ґ–Є–Ї–Є, –Ј–љ–∞–µ—В–µ, –Ї–Њ–Љ—ГвА¶
вАФ –Ч–љ–∞—З–Є—В, —В–Њ—З–љ–Њ —Н—В–Њ –Њ–љ–∞, –Ы–∞–љ–∞! –Э—Г–ґ–љ–Њ –і–Њ–≥–љ–∞—В—М –µ–µ! –ѓ –±–µ–≥—Г –≤ –њ–µ—А–µ–і–љ–Є–µ –≤–∞–≥–Њ–љ—Л, –∞ –≤—Л вАФ –≤ –Ј–∞–і–љ–Є–µ! –£–±—М—О –µ–µ, –Ј–∞—А–∞–Ј—Г!
вАФ –Р, –µ—А—Г–љ–і–∞! –Т–Њ-–њ–µ—А–≤—Л—Е, –≥–і–µ –µ–µ –Є—Б–Ї–∞—В—М, –≤–∞–≥–Њ–љ–Њ–≤ –≤–Њ–љ —Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ. –Я–Њ–Ї–∞ –≤—Б–µ –Њ–±–µ–ґ–Є–Љ, –њ–Њ–µ–Ј–і –Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В—Б—П, –Є—Й–Є-—Б–≤–Є—Й–Є –µ–µ –љ–∞ –њ–µ—А—А–Њ–љ–µ вАФ –≤–Њ—В –Њ–љ, –Ї—Б—В–∞—В–Є, —Г–ґ–µ –њ–Њ—З—В–Є –њ—А–Є–µ—Е–∞–ї–Є. –Ш –і–∞–ґ–µ, –µ—Б–ї–Є –љ–∞–є–і–µ–ЉвА¶ –Ф–µ–љ—М–≥–Є вАФ –љ–µ –і—А–∞–≥–Њ—Ж–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є. –І—В–Њ —Г –љ–∞—Б –љ–Њ–Љ–µ—А–∞ –Ј–∞–њ–Є—Б–∞–љ—Л? –°–Ї–∞–ґ–µ—В, —З—В–Њ —Н—В–Њ –µ–µ, –Ї—А–Њ–≤–љ—Л–µ, —В—П–ґ–Ї–Є–Љ —В—А—Г–і–Њ–Љ, –Ї–ї–Є–Ј–Љ–∞–Љ–Є –і–∞ –њ–Є—П–≤–Ї–∞–Љ–Є, –Ј–∞—А–∞–±–Њ—В–∞–љ–љ—Л–µ –Є –Ї –Њ—В–њ—Г—Б–Ї—Г –љ–∞–Ї–Њ–њ–ї–µ–љ–љ—Л–µ. –Р –Љ–Њ–ґ–µ—В, –Њ–љ–∞ –Є—Е –і–∞–≤–љ–Њ –њ–Њ–і—А—Г–≥–µ –њ–µ—А–µ–і–∞–ї–∞ –Є–ї–Є –Љ—Г–ґ–Є–Ї—Г –Ї–∞–Ї–Њ–Љ—Г-–љ–Є–±—Г–і—М, —Б–≤–Њ–µ–Љ—Г –њ–Њ–і–µ–ї—М—Й–Є–Ї—Г. –Э–∞–≤–µ—А–љ–Њ–µ, –Є—Е —В—Г—В —Ж–µ–ї–∞—П –Ї–Њ–і–ї–∞, –±—Г–і–µ—В, –Ї–Њ–Љ—Г –Ј–∞ –љ–µ—Б—З–∞—Б—В–љ—Г—О –і–µ–≤—Г—И–Ї—Г –Ј–∞—Б—В—Г–њ–Є—В—М—Б—П, —В–∞–Ї —З—В–Њ –њ–Њ –Љ–Њ—А–і–µ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –≤–њ–Њ–ї–љ–µ —Б—Е–ї–Њ–њ–Њ—В–∞—В—М, –∞ —В–Њ –Є –љ–Њ–ґ –≤ –±—А—О—Е–Њ. –Ш –ґ–∞–ї–Њ–≤–∞—В—М—Б—П –љ–µ –љ–∞ –Ї–Њ–≥–Њ: –њ–∞—Б–њ–Њ—А—В —Г –љ–µ–µ, –≥–∞–і—О–Ї–Є, –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, –≤ –њ–Њ—А—П–і–Ї–µ, –Є –њ—А–Њ–њ–Є—Б–Ї–∞, –Є —И—В–∞–Љ–њ —Б –Љ–µ—Б—В–∞ —А–∞–±–Њ—В—Л, –∞ —З—В–Њ —В–∞–Љ –љ–µ –°–≤–µ—В–ї–∞–љ–∞ –Є –љ–µ 1956-–є –≥–Њ–і, —Н—В–Њ —В–Њ—З–љ–Њ. –Ш –≤ –Љ–Є–ї–Є—Ж–Є–Є –љ–∞ –љ–µ–µ –љ–Є—З–µ–≥–Њ –љ–µ—В. –Я—А–Є–≤–µ—В, —А–µ–±—П—В–∞: –њ–ї–∞–Ї–∞–ї–Є –љ–∞—И–Є –і–µ–љ–µ–ґ–Ї–Є. –Ґ—Л, –Ы–µ–Њ–љ–Є–і, –љ–µ –±–Њ–є—Б—П. –Ь—Л —В–µ–±–µ –љ–∞ –њ–µ—А–≤—Л—Е –њ–Њ—А–∞—Е –њ–Њ–Љ–Њ–ґ–µ–Љ, –њ–Њ–Ї–∞ –Є–Ј –і–Њ–Љ—Г –љ–µ –њ—А–Є—И–ї—О—В. –Э–Њ, –њ–Њ–і—Г–Љ–∞–є—В–µ, –Ї–∞–Ї–∞—П –Ї–ї–∞—Б—Б–љ–∞—П –і—А—П–љ—М, –∞–≤–∞–љ—В—О—А–Є—Б—В–Ї–∞! –Я—А–Њ—Б–ї–µ–Ј–Є–ї–∞—Б—М –Њ—В –Є–Ј–±—Л—В–Ї–∞ —З—Г–≤—Б—В–≤, –®–µ–Ї—Б–њ–Є—А–∞ –љ–∞–Љ —З–Є—В–∞–ї–∞, –Я—Г—И–Ї–Є–љ–∞!
вАФ –Р —В—Л —Е–Њ—В–µ–ї, —З—В–Њ–±—Л –Њ–љ–∞ –®–µ–є–љ–Є–љ–∞ –Є–ї–Є –Р–≥–∞—В—Г –Ъ—А–Є—Б—В–Є —З–Є—В–∞–ї–∞? –Ш–ї–Є ¬Ђ–Ь—Г—А–Ї—Г¬ї —Б–њ–µ–ї–∞? –Э–Њ –Љ—Л-—В–Њ, –Љ—Л-—В–Њ —Е–Њ—А–Њ—И–Є! –£—И–Є —А–∞–Ј–≤–µ—Б–Є–ї–Є, –≥—Г–±—Л —А–∞—Б–њ—Г—Б—В–Є–ї–Є, —А–∞—Б—Б–ї–∞–±–Є–ї–Є—Б—МвА¶ –Т–Ј—А–Њ—Б–ї—Л–µ –ї—О–і–Є, –Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–µ, –Љ–Њ–ґ–љ–Њ —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М, —А–∞–±–Њ—В–љ–Є–Ї–ЄвА¶ –С—Г–і—В–Њ —Б–Љ–∞–Ј–ї–Є–≤–Њ–є –і–µ–≤–Ї–Є –љ–Є–Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–µ –≤–Є–і–µ–ї–ЄвА¶ –Р—Е, –і—Г—А–∞–Ї–Є, –і—Г—А–∞–Ї–Є!
вАФ –Ф—Г-—А–∞-–Ї–Є, –і—Г-—А–∞-–Ї–Є, вАФ –≤ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–є —А–∞–Ј –њ–Њ–і—В–≤–µ—А–і–Є–ї–Є –Ї–Њ–ї–µ—Б–∞, –њ–Њ–µ–Ј–і –і–µ—А–љ—Г–ї—Б—П –Є –Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–ї—Б—П.
–ѓ–љ –Ґ–Њ—А—З–Є–љ—Б–Ї–Є–є
–Я–Ю–Ф –°–Ґ–£–Ъ –Ъ–Ю–Ы–Х–°

–Ґ—А–Њ–µ –Љ—Г–ґ—З–Є–љ –і–µ–ї–Њ–≤–Є—В–Њ –Њ—Б–≤–∞–Є–≤–∞–ї–Є –≤–∞–≥–Њ–љ–љ–Њ–µ –Ї—Г–њ–µ, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ –Є–Љ –њ—А–µ–і—Б—В–Њ—П–ї–Њ –њ—А–Њ–≤–µ—Б—В–Є –≤–µ—З–µ—А, –љ–Њ—З—М –Є —Г—В—А–Њ —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–µ–≥–Њ –і–љ—П: —Б–љ–Є–Љ–∞–ї–Є –≥–∞–ї—Б—В—Г–Ї–Є, –і–Њ—Б—В–∞–≤–∞–ї–Є –Є–Ј –і–Њ—А–Њ–ґ–љ—Л—Е —Б—Г–Љ–Њ–Ї –Є –њ–Њ—А—В—Д–µ–ї–µ–є —В–∞–њ–Њ—З–Ї–Є, —В—Г–∞–ї–µ—В–љ—Л–µ –њ—А–Є–љ–∞–і–ї–µ–ґ–љ–Њ—Б—В–Є –Є —В—А–µ–љ–Є—А–Њ–≤–Њ—З–љ—Л–µ –Ї–Њ—Б—В—О–Љ—Л. –Ф–Њ –Њ—В–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –њ–Њ–µ–Ј–і–∞ –Њ—Б—В–∞–≤–∞–ї–Є—Б—М —Б—З–Є—В–∞–љ–љ—Л–µ –Љ–Є–љ—Г—В—Л, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ, –µ—Й–µ —Б–Њ–≤—Б–µ–Љ –љ–µ–і–∞–≤–љ–Њ, –њ—А–Є–≤–Њ–і–Є–ї–Є –њ–∞—Б—Б–∞–ґ–Є—А–Њ–≤ –≤ —А–∞–і–Њ—Б—В–љ–Њ–µ –Є –≤–Њ–ї–љ—Г—О—Й–µ–µ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є–µ: –≤–Њ—В-–≤–Њ—В —А–∞–Ј–і–∞–і—Г—В—Б—П —Б–≤–Є—Б—В–Ї–Є, –≥–і–µ-—В–Њ –≤–њ–µ—А–µ–і–Є —Б–Њ—Б—В–∞–≤–∞ –±–Њ–ї—М—И–Њ–є, –љ–µ—Г–Ї–ї—О–ґ–Є–є –њ–∞—А–Њ–≤–Њ–Ј –Њ–Ї—Г—В–∞–µ—В—Б—П –њ–∞—А–Њ–Љ, –≤–Ј–і—А–Њ–≥–љ—Г—В –Є –њ—А–Є–і—Г—В –≤ –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є–µ –Ї–Њ–ї–µ—Б–∞, –ї–Њ–Љ–∞—П —Б—Г—Б—В–∞–≤—Л –Ї—А–Є–≤–Њ—И–Є–њ–Њ–≤вА¶ –Ъ–∞–Ї–∞—П-—В–Њ –ґ–µ–ї–µ–Ј–љ–Њ–і–Њ—А–Њ–ґ–љ–∞—П –Љ–Є—Б—В–Є–Ї–∞, –њ–Њ—З—В–Є –Ї–∞–Ї –њ–µ—А–µ–і –≤–Ј–ї–µ—В–Њ–Љ —Б–∞–Љ–Њ–ї–µ—В–∞. –Р —Б–µ–є—З–∞—Б вАФ –≤–∞–≥–Њ–љ—Л –њ–Њ—В—П–љ–µ—В, –∞, –Љ–Њ–ґ–µ—В, –љ–∞—З–љ–µ—В —В–Њ–ї–Ї–∞—В—М –≤ —Б–њ–Є–љ—Г —Н–ї–µ–Ї—В—А–Њ–≤–Њ–Ј –≤ —З–Є—Б—В–µ–љ—М–Ї–Њ–є, –∞—Н—А–Њ–і–Є–љ–∞–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є –≤—Л–≤–µ—А–µ–љ–љ–Њ–є –Њ–±–Њ–ї–Њ—З–Ї–µ, —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ—Л–є –Є —Н—Д—Д–µ–Ї—В–Є–≤–љ—Л–є, —А–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ—Л–є –Ї–∞–Ї–Њ–є-—В–Њ, –њ—А–µ—Б–љ—Л–є, –њ—А–Њ–Ј–∞–Є—З–µ—Б–Ї–Є–євА¶ –Ш –љ–Є–Ї–∞–Ї–Є—Е –Љ–∞—И–Є–љ–Є—Б—В–Њ–≤ –≤ –њ—А–Њ–Љ–∞—Б–ї–µ–љ–љ—Л—Е —Д–Њ—А–Љ–µ–љ–љ—Л—Е —Д—Г—А–∞–ґ–Ї–∞—Е, –љ–Є–Ї–∞–Ї–Є—Е —З—Г–Љ–∞–Ј—Л—Е –Ї–Њ—З–µ–≥–∞—А–Њ–≤, –њ–Њ–і–±—А–∞—Б—Л–≤–∞—О—Й–Є—Е —Г–≥–Њ–ї—М –≤ –Њ–≥–љ–µ–і—Л—И–∞—Й–µ–µ –ґ–µ—А–ї–Њ —В–Њ–њ–Ї–ЄвА¶ –Ш –љ–Є–Ї–∞–Ї–Њ–є —А–Њ–Љ–∞–љ—В–Є–Ї–Є, –љ—Г, –∞–±—Б–Њ–ї—О—В–љ–Њ –љ–Є–Ї–∞–Ї–Њ–є! –Р —А–Њ–Љ–∞–љ—В–Є–Ї–Є —Е–Њ—В–µ–ї–Њ—Б—М, –µ–є –≤—Б–µ —Б–µ—А–і—Ж–∞ –њ–Њ–Ї–Њ—А–љ—Л, –∞ —В–µ–Љ, –≤ –Ї—Г–њ–µ, —Е–Њ—В–µ–ї–Њ—Б—М –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ. –Т—Б–µ —В—А–Є –њ–∞—Б—Б–∞–ґ–Є—А–∞ –і—А—Г–ґ–љ–Њ –њ–Њ–і–Њ—И–ї–Є –Є–ї–Є –њ–µ—А–µ—И–∞–≥–љ—Г–ї–Є –њ–Њ—А–Њ–≥ –Њ–њ–∞—Б–љ–Њ–≥–Њ —Б–Њ—А–Њ–Ї–∞–ї–µ—В–љ–µ–≥–Њ –≤–Њ–Ј—А–∞—Б—В–∞, –Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–∞ –Љ—Г–ґ—З–Є–љ –љ–∞–њ–∞–і–∞–µ—В —Б—В—А–∞–љ–љ–Њ–µ –Є –Њ–њ–∞—Б–љ–Њ–µ —В–Њ–Љ–ї–µ–љ–Є–µ –і—Г—И–Є, –Є –Њ–љ–∞ —В—А–µ–±—Г–µ—В —З–µ–≥–Њ-—В–Њ –љ–µ–Њ–±—Л—З–љ–Њ–≥–Њ, –љ–µ–њ—А–µ–і—Б–Ї–∞–Ј—Г–µ–Љ–Њ–≥–Њ, –Ї–∞–Ї–Є—Е-—В–Њ –љ–µ–Њ–ґ–Є–і–∞–љ–љ—Л—Е –≤—Б—В—А–µ—З, –њ–Њ–і–≤–Є–≥–Њ–≤, –±–µ–Ј—Г–Љ–љ–Њ–є –≤—Б–њ—Л—И–Ї–Є —З—Г–≤—Б—В–≤, —О–љ–Њ—И–µ—Б–Ї–Њ–є –Њ—В–≤–∞–≥–Є –Є –±–µ–Ј—А–∞—Б—Б—Г–і—Б—В–≤–∞, –∞ —А–∞–Ј—Г–Љ –і–∞ –њ–µ—З–µ–љ—М, –і–∞ –Є–Ј—К—П–љ—Л –≤ —И–µ–≤–µ–ї—О—А–µ, –і–∞ —Б–µ–Љ–µ–є–љ—Л–µ –њ—А–Њ–±–ї–µ–Љ—Л, –љ–µ –≥–Њ–≤–Њ—А—П —Г–ґ–µ –Њ –њ—А–Њ—З–µ–Љ, –њ–Њ–і—Б–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—О—В, —З—В–Њ –љ–∞–і–µ–ґ–і –љ–∞ —В–∞–Ї–Є–µ —А–∞–і—Г–ґ–љ—Л–µ –≤—Б–њ—Л—И–Ї–Є, —Б–њ–Њ—Б–Њ–±–љ—Л–µ –Њ–Ј–∞—А–Є—В—М –Є—Е —Е—А–Њ–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є —Б–µ—А—Л–є –≥–Њ—А–Є–Ј–Њ–љ—В, –Њ—Б—В–∞–µ—В—Б—П –≤—Б–µ –Љ–µ–љ—М—И–µ –Є –Љ–µ–љ—М—И–µ. –Ф–∞, –Љ–Њ–ґ–µ—В, —Н—В–Њ –Є –Ї –ї—Г—З—И–µ–Љ—ГвА¶
вАФ –°–ї—Г—И–∞–є, –Р—А—В–µ–Љ –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤–Є—З, –љ–µ—Г–ґ–µ–ї–Є —В–∞–Ї –Є –њ–Њ–µ–і–µ–Љ –≤—В—А–Њ–µ–Љ? вАФ –Њ–±—А–∞—В–Є–ї—Б—П –Њ–і–Є–љ –Є–Ј –њ–∞—Б—Б–∞–ґ–Є—А–Њ–≤ –Ї —Б–≤–Њ–µ–Љ—Г —В–Њ–≤–∞—А–Є—Й—Г.
вАФ –Э–µ –і—Г–Љ–∞—О, –Т–Њ–ї–Њ–і—П, вАФ –Њ—В–≤–µ—В–Є–ї —В–Њ—В. вАФ –Т—Б–µ –ґ–µ –ї–µ—В–Њ, —О–≥–Њ-–Ј–∞–њ–∞–і–љ–Њ–µ –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ, —В—А–∞–љ—Б–њ–Њ—А—В –љ–µ —Б–њ—А–∞–≤–ї—П–µ—В—Б—П. –Ю—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ –њ–Њ –њ—П—В–љ–Є—Ж–∞–Љ. –Ґ—Л —З—В–Њ вАФ –љ–µ –њ–Њ–Љ–љ–Є—И—М, –Ї–∞–Ї –љ–∞–Љ –±–Є–ї–µ—В—Л —З–µ—А–µ–Ј –Љ–Є–љ–Є—Б—В–µ—А—Б–Ї—Г—О –±—А–Њ–љ—О –і–Њ–±—Л–≤–∞–ї–Є, –і–∞ –Є —В–Њ —Б —В—А—Г–і–Њ–Љ. –Т—Л, –љ–∞–≤–µ—А–љ–Њ–µ, —В–Њ–ґ–µ –љ–∞–Љ—Г—З–Є–ї–Є—Б—М, –њ–Њ–Ї–∞ –і–Њ—Б—В–∞–ї–Є, вАФ –Њ–±—А–∞—В–Є–ї—Б—П –Њ–љ –Ї —В—А–µ—В—М–µ–Љ—Г –њ–Њ–њ—Г—В—З–Є–Ї—Г.
вАФ –Э–µ—В, —П вАФ –Љ–Њ—Б–Ї–≤–Є—З. –Т–Њ—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–ї—Б—П –Ї–∞—Б—Б–Њ–є –њ—А–µ–і–≤–∞—А–Є—В–µ–ї—М–љ—Л—Е –Ј–∞–Ї–∞–Ј–Њ–≤ –Є –Ї—Г–њ–Є–ї –Ј–∞ –Љ–µ—Б—П—Ж —Б—А–∞–Ј—Г –≤ –і–≤–∞ –Ї–Њ–љ—Ж–∞. –Ю—З–µ–љ—М —Г–і–Њ–±–љ–Њ.
вАФ –Р –Ї –љ–∞–Љ –≤ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–Њ–≤–Ї—Г –µ–і–µ—В–µ?
вАФ –Т –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–Њ–≤–Ї—Г.
–Т —Н—В–Њ –≤—А–µ–Љ—П —Б–Њ—Б—В–∞–≤ –≤–Ј–і—А–Њ–≥–љ—Г–ї –≤—Б–µ–Љ —Б–≤–Њ–Є–Љ –Љ–љ–Њ–≥–Њ—З–ї–µ–љ–Є—Б—В—Л–Љ —В–µ–ї–Њ–Љ –Є –Љ–µ–і–ї–µ–љ–љ–Њ –њ–Њ–њ–Њ–ї–Ј –≤–њ–µ—А–µ–і.
вАФ –Я–Њ–µ—Е–∞–ї–Є, вАФ —Е–Њ—А–Њ–Љ —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї–Є –њ–∞—Б—Б–∞–ґ–Є—А—Л.
вАФ –Я–Њ-–µ-—Е–∞-–ї–Є, –њ–Њ-–µ-—Е–∞-–ї–ЄвА¶ вАФ –њ–Њ–і—В–≤–µ—А–і–Є–ї–Є –Ї–Њ–ї–µ—Б–∞, –љ–∞–Ї–∞—В—Л–≤–∞—П—Б—М –љ–∞ —Б—В—Л–Ї–Є —А–µ–ї—М—Б–Њ–≤.
–Ш –≤–і—А—Г–≥ –≤ –њ—А–Њ–µ–Љ–µ –і–≤–µ—А–Є –њ–Њ—П–≤–Є–ї–∞—Б—М –і–µ–≤—Г—И–Ї–∞, –Є —В–µ—Б–љ–Њ–µ, –≥—А—П–Ј–љ–Њ–≤–∞—В–Њ–µ –Ї—Г–њ–µ –≤–љ–µ–Ј–∞–њ–љ–Њ –њ—А–µ–Њ–±—А–∞–Ј–Є–ї–Њ—Б—М, —Б—В–∞–ї–Њ –њ—А–Њ—Б—В–Њ—А–љ–µ–µ, –љ–∞—А—П–і–љ–µ–µ, —Б–≤–µ—В–ї–µ–µ, –Є –≤–Њ–Њ–±—Й–µ –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М, —З—В–Њ —В—Г–і–∞ –≤–Њ—А–≤–∞–ї—Б—П –љ–∞—Б—Л—Й–µ–љ–љ—Л–є –Њ–Ј–Њ–љ–Њ–Љ –≤–Њ–Ј–і—Г—Е –≤–њ–µ—А–µ–Љ–µ—И–Ї—Г —Б –∞—А–Њ–Љ–∞—В–Њ–Љ —Е–≤–Њ–є–љ–Њ–≥–Њ, –њ—А–Њ–љ–Є–Ј–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ —Б–Њ–ї–љ—Ж–µ–Љ –ї–µ—Б–∞ –Є –Ј–∞–Ј–≤—Г—З–∞–ї–Њ –њ—В–Є—З—М–µ —А–∞–Ј–љ–Њ–≥–Њ–ї–Њ—Б–Є–µ, —Б—В—А–µ–Ї–Њ—В–∞–љ–Є–µ —Б—В–µ–њ–љ—Л—Е –Ї—Г–Ј–љ–µ—З–Є–Ї–Њ–≤, —И–µ–ї–µ—Б—В –Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ—А–Є–±–Њ—П. –Ш –і–∞–ґ–µ –Ї–Њ–ї–µ—Б–∞ –≤ –Є–Ј—Г–Љ–ї–µ–љ–Є–Є –љ–∞—З–∞–ї–Є –≤—Л—Б—В—Г–Ї–Є–≤–∞—В—М: ¬Ђ–Р—Е-–∞—Е-–∞—Е-–∞—Е!¬ї –Ш –≤ —Г–љ–Є—Б–Њ–љ –Є–Љ –Ј–∞—Б—В—Г—З–∞–ї–Є —Б–µ—А–і—Ж–∞ —В—А–µ—Е —Б–Њ—А–Њ–Ї–∞–ї–µ—В–љ–Є—Е –њ–∞—Б—Б–∞–ґ–Є—А–Њ–≤, –ґ–∞–ґ–і—Г—Й–Є—Е —А–Њ–Љ–∞–љ—В–Є–Ї–Є: ¬Ђ–Р—Е, –∞—Е, –∞—ЕвА¶¬ї –Т–Њ—В —В–∞–Ї, –ґ–і–µ—И—М, –ґ–і–µ—И—М —З—Г–і–∞, –∞ –Њ–љ–Њ —Б–∞–Љ–Њ —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П, —Б–ї–Њ–≤–љ–Њ –±–Њ–≥ –Є–Ј –Љ–∞—И–Є–љ—Л, –Є —Б—В–Њ–Є—В, —А–∞—Б–Ї—А–∞—Б–љ–µ–≤—И–µ–µ—Б—П, –љ–∞ –њ–Њ—А–Њ–≥–µ —В–≤–Њ–µ–≥–Њ –Ї—Г–њ–µ, –њ—Л—В–∞—П—Б—М –≤–Њ—Б—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В—М –і—Л—Е–∞–љ–Є–µ, –±—Г–і—В–Њ –њ–Њ—Б–ї–µ –±—Л—Б—В—А–Њ–≥–Њ –±–µ–≥–∞, —Б–Љ–Њ—В—А–Є—В —И–Є—А–Њ–Ї–Њ —А–∞—Б–Ї—А—Л—В—Л–Љ–Є –±–ї–µ—Б—В—П—Й–Є–Љ–Є –≥–ї–∞–Ј–∞–Љ–Є –Є –њ–Њ—В—А—П—Е–Є–≤–∞–µ—В –Ї–Њ–њ–љ–Њ–є —З–µ—А–љ—Л—Е –≤–Њ–ї–Њ—Б. –Э—Г, —З—Г–і–Њ –Є —З—Г–і–Њ!
–Ш –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ, –і–µ–≤—Г—И–Ї–∞ –±—Л–ї–∞ —З—Г–і–Њ –Ї–∞–Ї —Е–Њ—А–Њ—И–∞, –≤—Б—П –Ї–∞–Ї–∞—П-—В–Њ –љ–Њ–≤–∞—П, —Б–≤–µ–ґ–∞—П, –∞—А–Њ–Љ–∞—В–љ–∞—П, –≤–Ї—Г—Б–љ–∞—П, –Є—Б–Ї—А—П—Й–∞—П—Б—П –≤–µ—Б–µ–ї—М–µ–Љ, —А–∞–і–Њ—Б—В—М—О, —Н–љ–µ—А–≥–Є–µ–є –Є –≥–Њ—В–Њ–≤–љ–Њ—Б—В—М—О –њ–Њ–і–µ–ї–Є—В—М—Б—П —Н—В–Є–Љ —Б–Њ –≤—Б–µ–Љ —Б–≤–µ—В–Њ–Љ. –Э–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ —Б–µ–Ї—Г–љ–і –Њ–љ–∞ –Љ–Њ–ї—З–∞ —Б—В–Њ—П–ї–∞ –≤ –і–≤–µ—А—П—Е, —И–Є—А–Њ–Ї–Њ —Г–ї—Л–±–∞—П—Б—М, –Є –љ–µ–≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ –љ–µ —Г–ї—Л–±–љ—Г—В—М—Б—П –µ–є –≤ –Њ—В–≤–µ—В. –Р –њ–Њ—В–Њ–Љ –Ј–∞–≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї–∞, —З—Г—В—М —И–µ–њ–µ–ї—П–≤—П, –Є —Н—В–Њ –њ—А–Є–і–∞–≤–∞–ї–Њ –µ–µ —А–µ—З–Є –љ–µ—Г–ї–Њ–≤–Є–Љ–Њ —В–µ–њ–ї–Њ–µ, –љ—Г, –њ—А–Њ—Б—В–Њ –і–Њ–Љ–∞—И–љ–µ–µ, –Є –≤ —В–Њ –ґ–µ –≤—А–µ–Љ—П –≤–Њ–ї–љ—Г—О—Й–µ–µ —Б–≤–Њ–µ–Њ–±—А–∞–Ј–Є–µ, –∞ –µ—Й–µ –њ–Њ–і–Ї—Г–њ–∞—О—Й—Г—О, —З—Г—В—М –ї–Є –љ–µ –±–µ–Ј–Ј–∞—Й–Є—В–љ—Г—О –і–µ—В—Б–Ї–Њ—Б—В—М.
вАФ –Ч–і—А–∞–≤—Б—В–≤—Г–є—В–µ, —Б–њ—Г—В–љ–Є–Ї–Є! –Ъ–∞–Ї —П —Г—Б–њ–µ–ї–∞, —Б–∞–Љ–∞ —Г–і–Є–≤–ї—П—О—Б—М. –Ч–∞ –Ї–≤–∞—А—В–∞–ї –і–Њ –≤–Њ–Ї–Ј–∞–ї–∞ –Љ–Њ–µ —В–∞–Ї—Б–Є –Ј–∞–≥–ї–Њ—Е–ї–Њ. –Р –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є –≤ –Њ–±—А–µ–Ј. –Э—Г, —П —Б—Г–Љ–Ї—Г –≤ —А—Г–Ї–Є –Є –±–µ–≥–Њ–Љ! –Т—Б–Ї–Њ—З–Є–ї–∞ –≤ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–є –≤–∞–≥–Њ–љ, —Г–ґ–µ –њ–Њ–µ–Ј–і –і–≤–Є–љ—Г–ї—Б—П, –Є —З–µ—А–µ–Ј –њ–Њ–ї—Б–Њ—Б—В–∞–≤–∞ –Ї –≤–∞–Љ –њ—А–Њ–±–Є—А–∞–ї–∞—Б—М. –Р –Є–і—В–Є —Б–Ї–≤–Њ–Ј—М –≤–∞–≥–Њ–љ—Л, –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ, –Њ–±—Й–Є–µ, –і–∞ –µ—Й–µ —Б —В–∞–Ї–Є–Љ –±–∞–≥–∞–ґ–Њ–Љ вАФ –±—А-—А-—А! вАФ –≤—Б–њ–Њ–Љ–љ–Є—В—М –ґ—Г—В–Ї–Њ. –Э—Г, —Б–ї–∞–≤–∞ –С–Њ–≥—Г, –і–Њ–±—А–∞–ї–∞—Б—М. –£ –Љ–µ–љ—П –і–µ—Б—П—В–Њ–µ –Љ–µ—Б—В–Њ, —Н—В–Њ –≤–µ—А—Е–љ—П—П –њ–Њ–ї–Ї–∞, —Б–ї–µ–≤–∞, –і–∞?
вАФ –Э—Г, —З—В–Њ –≤—Л, вАФ –≤–Њ–Ј—А–∞–Ј–Є–ї –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А. вАФ –Ъ—В–Њ –ґ–µ –і–Њ–њ—Г—Б—В–Є—В, —З—В–Њ–± —В–∞–Ї–∞—П –і–µ–≤—Г—И–Ї–∞ –љ–∞ –≤–µ—А—Е–Њ—В—Г—А—Г –Ї–∞—А–∞–±–Ї–∞–ї–∞—Б—М? –Ь—Л вАФ –Љ—Г–ґ—З–Є–љ—Л, –Є–ї–Є –≥–і–µ?
вАФ –Ь—Г–ґ—З–Є–љ—Л, –Љ—Г–ґ—З–Є–љ—Л, –Ї—В–Њ –±—Л —Б–Њ–Љ–љ–µ–≤–∞–ї—Б—ПвА¶ –Р –≥–і–µ вАФ –њ–Њ—Б–Љ–Њ—В—А–Є–Љ, вАФ —А–∞—Б—Б–Љ–µ—П–ї–∞—Б—М –Њ–љ–∞, –±—Г–і—В–Њ –±—Г—Б—Л —Б —А–∞–Ј–Њ—А–≤–∞–љ–љ–Њ–є –љ–Є—В–Ї–Є —А–∞—Б—Б—Л–њ–∞–ї–∞ –њ–Њ —Б–µ—А–µ–±—А—П–љ–Њ–Љ—Г –±–ї—О–і—Г. вАФ –Э—Г, —Б–њ–∞—Б–Є–±–Њ. –Ф–∞–≤–∞–є—В–µ, –Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ–Є—В—М—Б—П. –Ь–µ–љ—П –Ј–Њ–≤—Г—В –Ы–∞–љ–∞.
вАФ –Р—А—В–µ–Љ –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤–Є—З, –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –Р—А—В–µ–ЉвА¶ –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—АвА¶ –Ы–µ–Њ–љ–Є–івА¶ –Р –Ы–∞–љ–∞ вАФ —Н—В–Њ —Б–Њ–Ї—А–∞—Й–µ–љ–љ–Њ–µ –°–≤–µ—В–ї–∞–љ–∞?
вАФ –Ґ–Њ—З–љ–Њ. –£ –љ–∞—Б –≤ –њ–µ—А–≤–Њ–Љ –Ї–ї–∞—Б—Б–µ —З–µ—В—Л—А–µ –°–≤–µ—В–ї–∞–љ—Л –±—Л–ї–Њ. –Ґ–∞–Ї, –Ї–Њ–≥–і–∞ —Г—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Є—Ж–∞ —Б–Ї–∞–ґ–µ—В: ¬Ђ–Ъ –і–Њ—Б–Ї–µ –њ–Њ–є–і–µ—В –°–≤–µ—В–∞вА¶¬ї, —Г –≤—Б–µ—Е —З–µ—В—Л—А–µ—Е —Б–µ—А–і—Ж–µ –≤ –њ—П—В–Ї–∞—Е, –њ–Њ–Ї–∞ —Д–∞–Љ–Є–ї–Є—О —Г—Б–ї—Л—И–Є—И—М. –Т–Њ—В —П –Є –њ–Њ–Љ–µ–љ—П–ї–∞ –Є–Љ—П. –†–Њ–і–Є—В–µ–ї–Є –≤ —Г–ґ–∞—Б –њ—А–Є—И–ї–Є. –Я–Њ–і—А—Г–ґ–Ї–Є –Ј–∞–Є–Ї–∞–ї–Є—Б—М. –°–Ї–∞–Ј–∞—В—М –њ–Њ –њ—А–∞–≤–і–µ, —Б–љ–∞—З–∞–ї–∞ —Б–∞–Љ–Њ–є —Б—В—А–∞–љ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ, –њ–Њ—В–Њ–Љ –њ—А–Є–≤—Л–Ї–ї–∞.
вАФ –Р –Ј–∞—З–µ–Љ –≤ –Ъ–Є–µ–≤ –µ–і–µ—В–µ?
вАФ –Т –Њ—В–њ—Г—Б–Ї. –£ –Љ–µ–љ—П —В–∞–Љ —В–µ—В—П –Ы–Є–Ј–∞, –Љ–∞–Љ–Є–љ–∞ —Б–µ—Б—В—А–∞, –љ–∞ –†—Г—Б–∞–љ–Њ–≤–Ї–µ –ґ–Є–≤–µ—В, —Н—В–Њ —В–∞–Ї–∞—П –Љ–µ—Б—В–љ–∞—П –Т–µ–љ–µ—Ж–Є—П, –Ї–Є–µ–≤–ї—П–љ–µ –Ј–љ–∞—О—В. ¬Ђ–Я—А–Є–µ–Ј–ґ–∞–є, вАФ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В, вАФ –Ы–∞–љ–Ї–∞. –С—Г–і–µ—И—М –Њ—В–і—Л—Е–∞—В—М, –Ї–∞–Ї –љ–∞ –і–∞—З–µ, —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Б —В—Г–∞–ї–µ—В–Њ–Љ, –≥–Њ—А—П—З–µ–є –≤–Њ–і–Њ–є, –ї–Є—Д—В–Њ–Љ –Є —В–µ–ї–µ—Д–Њ–љ–Њ–Љ. –Р –≤—Б—О –љ–Њ—З—М –≤ –Ї—Г—Б—В–∞—Е –љ–∞–і –Ї–∞–љ–∞–ї–Њ–Љ —Б–Њ–ї–Њ–≤—М–Є –њ–Њ—О—В¬ї. –Э—Г, —П —Б —В–µ—В–Ї–Є–љ–Њ–≥–Њ —А–∞–Ј—А–µ—И–µ–љ–Є—П –њ–Њ–і—А—Г–ґ–Ї—Г –њ—А–Є—Е–≤–∞—В–Є–ї–∞ –Ј–∞ –Ї–Њ–Љ–њ–∞–љ–Є—О вАФ –Є –≤–њ–µ—А–µ–і!
вАФ –Ш —Б —В–µ–ї–µ—Д–Њ–љ–Њ–Љ? вАФ –њ–Њ–Є–љ—В–µ—А–µ—Б–Њ–≤–∞–ї—Б—П –Љ–Њ—Б–Ї–≤–Є—З –Ы–µ–Њ–љ–Є–і.
вАФ –Р –≤—Л –Љ–љ–µ –њ–Њ–Ј–≤–Њ–љ–Є—В—М —Е–Њ—В–Є—В–µ? вАФ —Б–љ–Њ–≤–∞ —А–∞—Б—Б—Л–њ–∞–ї–∞ –Њ–љ–∞ –Ј–≤–Њ–љ–Ї–Њ –њ—А—Л–≥–∞—О—Й–Є–µ –±—Г—Б—Л –њ–Њ —Б–µ—А–µ–±—А—Г. вАФ –Я–Њ–ґ–∞–ї—Г–є—Б—В–∞, –±—Г–і—Г —А–∞–і–∞. –Ч–∞–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–є—В–µ –Є–ї–Є –Ј–∞–њ–Є—Б—Л–≤–∞–є—В–µ –љ–Њ–Љ–µ—А: —В—А–Є –њ—П—В–µ—А–Ї–Є, –∞ –і–∞–ї—М—И–µ –Њ–і–Є–љ, –і–µ–≤—П—В—М, –њ—П—В—М–і–µ—Б—П—В —И–µ—Б—В—М. –Ь–љ–µ-—В–Њ –ї–µ–≥–Ї–Њ –Ј–∞–њ–Њ–Љ–љ–Є—В—М: –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–µ —Ж–Є—Д—А—Л вАФ –≥–Њ–і –Љ–Њ–µ–≥–Њ —А–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П. –Ю–є, вАФ —Б–њ–Њ—Е–≤–∞—В–Є–ї–∞—Б—М –Њ–љ–∞, вАФ —П –≤—Л–і–∞–ї–∞ —Б–≤–Њ–є –≤–Њ–Ј—А–∞—Б—ВвА¶
вАФ –Э—Г, –≤–∞–Љ –љ–µ—Б—В—А–∞—И–љ–Њ, –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г —З—В–ЊвА¶ вАФ –љ–∞—З–∞–ї –Р—А—В–µ–Љ, –Њ–і–љ–∞–Ї–Њ –Њ–±—К—П—Б–љ–Є—В—М, –њ–Њ—З–µ–Љ—Г, –µ–Љ—Г –љ–µ —Г–і–∞–ї–Њ—Б—М: –њ–Њ—П–≤–Є–ї–∞—Б—М –њ—А–Њ–≤–Њ–і–љ–Є—Ж–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –Ј–∞–±—А–∞–ї–∞ –±–Є–ї–µ—В—Л –Є –і–µ–љ—М–≥–Є –Ј–∞ –њ–Њ—Б—В–µ–ї–Є, –њ—А–µ–і—Г–њ—А–µ–і–Є–≤, —З—В–Њ —З–∞–є –±—Г–і–µ—В —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —З–µ—А–µ–Ј —З–∞—Б.
вАФ –Ґ—Л –њ–Њ—Б—В–Њ–є, –њ–Њ—Б—В–Њ–є, –Ї—А–∞—Б–∞–≤–Є—Ж–∞ –Љ–Њ—П, вАФ –њ—А–Њ–њ–µ–ї –Ы–µ–Њ–љ–Є–і, вАФ –њ–Њ—И—Г—И—Г–Ї–∞—В—М—Б—П –љ–∞–і–Њ, –њ–Њ—Б–µ–Ї—А–µ—В–љ–Є—З–∞—В—М, –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В—М—Б—П.
–Ъ–∞–Ї –Њ–љ–Є –і–Њ–≥–Њ–≤–∞—А–Є–≤–∞–ї–Є—Б—М, –љ–µ–Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ, –љ–Њ –≤ –Ї—Г–њ–µ –Њ–љ –≤–µ—А–љ—Г–ї—Б—П, –і–µ—А–ґ–∞ –љ–Њ–Ј–і—А–µ–≤–∞—В—Л–є, —Б–Њ–ї–љ–µ—З–љ–Њ –ґ–µ–ї—В—Л–є –ї–Є–Љ–Њ–љ –Є —З–µ—В—Л—А–µ —А—О–Љ–Ї–Є –Љ—Г—В–љ–Њ–≥–Њ —Б—В–µ–Ї–ї–∞.
вАФ –Э–µ —Е—А—Г—Б—В–∞–ї—М, –љ–Њ –љ–Є—З–µ–≥–Њ, —Б–Њ–є–і–µ—В. вАФ –Ы–µ–Њ–љ–Є–і –і–Њ—Б—В–∞–ї –Є–Ј —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –њ–Њ—А—В—Д–µ–ї—П –±—Г—В—Л–ї–Ї—Г –Ї–Њ–љ—М—П–Ї–∞ ¬Ђ–Р—А–Љ–µ–љ–Є—П¬ї –Є —А–∞–Ј–ї–Є–ї –µ–≥–Њ –њ–Њ —А—О–Љ–Ї–∞–Љ. вАФ –І–µ—Б—В–љ–Њ –≥–Њ–≤–Њ—А—П, –≤–µ–Ј –µ–≥–Њ –і–ї—П –њ–Њ–ї—М–Ј—Л –і–µ–ї–∞ –≤ –њ–Њ–і–∞—А–Њ–Ї –Њ–і–љ–Њ–Љ—Г –Ї–Є–µ–≤—Б–Ї–Њ–Љ—Г –љ–∞–±–Њ–±—Г. –Э–Њ –њ–Њ —В–∞–Ї–Њ–Љ—Г —Б–ї—Г—З–∞—О, —З–µ—А—В —Б –љ–Є–Љ–Є –Њ–±–Њ–Є–Љ–Є: –Є –і–µ–ї–Њ–Љ, –Є –љ–∞–±–Њ–±–Њ–ЉвА¶
вАФ –Ш–Ј–≤–Є–љ–Є—В–µ: —П –Ї–Њ–љ—М—П–Ї –љ–µ –њ—М—О, вАФ —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї–∞ –і–µ–≤—Г—И–Ї–∞, вАФ –њ—А–Є–≥—Г–±–ї—О —А–∞–Ј–≤–µ —З—В–Њ –і–ї—П –Ї–Њ–Љ–њ–∞–љ–Є–Є. –Р –≤–Њ—В –Є –Љ–Њ–є –≤–Ї–ї–∞–і –≤ –Њ–±—Й–Є–є —Б—В–Њ–ї: –њ–Є—А–Њ–ґ–Ї–Є: —Н—В–Є —Б –Љ—П—Б–Њ–Љ, —Н—В–Є —Б –њ–Њ–≤–Є–і–ї–Њ–Љ, –∞ —Н—В–Є —Б –Љ–∞–Ї–Њ–Љ. –°–∞–Љ–∞ –њ–µ–Ї–ї–∞! –Э—Г —З—В–Њ, –≤–Ї—Г—Б–љ–Њ?
вАФ –Х—Й–µ –Ї–∞–Ї! вАФ —Е–Њ—А–Њ–Љ –Њ—В–≤–µ—В–Є–ї–Є –µ–µ —Б–њ—Г—В–љ–Є–Ї–Є, –Є –Ї–Њ–ї–µ—Б–∞ –Њ—В–Њ–Ј–≤–∞–ї–Њ—Б—М —Б –Ј–∞–≤–Є—Б—В—М—О: ¬Ђ–Х—Й–µ –Ї–∞–Ї вАФ –µ—Й–µ –Ї–∞–Ї вАФ –µ—Й–µ –Ї–∞–ЇвА¶¬ї
вАФ –Р –≥–і–µ –≤–∞—И–∞ –њ–Њ–і—А—Г–≥–∞? –Ь–Њ–ґ–µ—В, –µ–µ –Ї –љ–∞–Љ –њ—А–Є–≥–ї–∞—Б–Є—В—М? вАФ –њ—А–Њ–≥–ї–Њ—В–Є–≤ –њ—П—В—Л–є –њ–Њ —Б—З–µ—В—Г –њ–Є—А–Њ–ґ–Њ–Ї, —Б–њ—А–Њ—Б–Є–ї –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А.
вАФ –Ш, –њ—А–∞–≤–і–∞, –≥–і–µ –Њ–љ–∞? вАФ –њ–Њ–і—Е–≤–∞—В–Є–ї–Є –µ–≥–Њ —Б–њ—Г—В–љ–Є–Ї–Є.
вАФ –Р –≤–∞–Љ –Љ–µ–љ—П –Љ–∞–ї–Њ? вАФ –Є–Ј—Г–Љ–Є–ї–∞—Б—М –Є, –Ї–∞–ґ–µ—В—Б—П, –і–∞–ґ–µ –Њ–±–Є–і–µ–ї–∞—Б—М –і–µ–≤—Г—И–Ї–∞. вАФ –Э—Г, –Љ—Г–ґ—З–Є–љ—Л, –љ—Г, –∞–≥—А–µ—Б—Б–Њ—А—Л, –≤—Б–µ—Е –≤–∞–Љ —Б—А–∞–Ј—Г –њ–Њ–і–∞–≤–∞–є! –Т—Л –±—Л –ї—Г—З—И–µ –њ–Њ–Є–љ—В–µ—А–µ—Б–Њ–≤–∞–ї–Є—Б—М: ¬Ђ–Я–Њ—З–µ–Љ—Г —П –Ї –љ–µ–є –љ–µ –Є–і—Г?¬ї –Р –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г, —З—В–Њ –Ј–і–µ—Б—М –Ї–Њ–Љ–њ–∞–љ–Є—П —Е–Њ—А–Њ—И–∞—П. –Ґ–∞–Ї, –Љ–Њ–ґ–µ—В, –Є —Г –љ–µ–µ –љ–µ —Е—Г–ґ–µ. –£–ґ –Ї–Њ–Љ—Г —З—В–Њ –і–Њ—Б—В–∞–ї–Њ—Б—М. –Ъ–∞–ґ–і–Њ–Љ—Г —Б–≤–Њ–µ.
–Э–∞—Б—В—Г–њ–Є–ї–Њ –љ–µ–ї–Њ–≤–Ї–Њ–µ –Љ–Њ–ї—З–∞–љ–Є–µ, –Є —З—В–Њ–±—Л –љ–∞—А—Г—И–Є—В—М –µ–≥–Њ, –Р—А—В–µ–Љ —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї:
вАФ –Э—Г, —З—В–Њ –≤—Л, –Ы–∞–љ–Њ—З–Ї–∞. –Ю–љ –љ–µ –≤ —В–Њ–Љ —Б–Љ—Л—Б–ї–µ, –Є–љ–Њ–≥–і–∞ –±—Л–≤–∞–µ—В, —З—В–Њ —Е–Њ—З–µ—В—Б—П –≤–µ—Б–µ–ї—Л–Љ –љ–∞—Б—В—А–Њ–µ–љ–Є–µ–Љ —Б–Њ –≤—Б–µ–Љ–Є –њ–Њ–і–µ–ї–Є—В—М—Б—П, –≤–Њ—В –Є –≤—Б–њ–Њ–Љ–љ–Є–ї–Є –Њ –≤–∞—И–µ–є –њ–Њ–і—А—Г–≥–µ: –≤–і—А—Г–≥ –µ–є —В–∞–Љ —Б–Ї—Г—З–љ–Њ. вАФ –Ш –Њ—В–≤–ї–µ–Ї–∞—П –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ –Њ—В –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї—И–µ–є –љ–µ–ї–Њ–≤–Ї–Њ—Б—В–Є, —Б–њ—А–Њ—Б–Є–ї: вАФ –Р —З–µ–Љ –≤—Л –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞–µ—В–µ—Б—М? –†–∞–±–Њ—В–∞–µ—В–µ, —Г—З–Є—В–µ—Б—М?
вАФ –Ш —В–Њ, –Є –і—А—Г–≥–Њ–µ. –ѓ —А–∞–±–Њ—В–∞—О –≤ –±–Њ–ї—М–љ–Є—Ж–µ –њ—А–Њ—Ж–µ–і—Г—А–љ–Њ–є —Б–µ—Б—В—А–Њ–є: –±–∞–љ–Ї–Є, —Г–Ї–Њ–ї—Л, –≥–Њ—А—З–Є—З–љ–Є–Ї–ЄвА¶ –Я–Є—П–≤–Ї–Є —Б—В–∞–≤–ї—О, вАФ –і–Њ–±–∞–≤–Є–ї–∞ –Њ–љ–∞ —Б—В—А–∞—И–љ—Л–Љ –≥–Њ–ї–Њ—Б–Њ–Љ. вАФ –Т–Є–і–µ–ї–Є –Ї–Њ–≥–і–∞-–љ–Є–±—Г–і—М —Н—В–Є—Е –Ї—А–Њ–≤–Њ—Б–Њ—Б–Њ–≤? –Р —Г—З—Г—Б—М –≤ –Ј–∞–Њ—З–љ–Њ–ЉвА¶
вАФ –Т –Љ–µ–і–Є—Ж–Є–љ—Б–Ї–Њ–Љ, –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ?
вАФ –Э–Є –Ј–∞ —З—В–Њ! –Э–µ —Е–Њ—З—Г –≤—Б—О –ґ–Є–Ј–љ—М —Б –±–Њ–ї—М–љ—Л–Љ–Є –≤–Њ–Ј–Є—В—М—Б—П, –Ї–∞–њ—А–Є–Ј—Л –Є—Е –≤—Л–љ–Њ—Б–Є—В—М, –ґ–∞–ї–Њ–±—Л —Б–ї—Г—И–∞—В—М. –Ч–і–µ—Б—М –њ—А–Є–Ј–≤–∞–љ–Є–µ –љ—Г–ґ–љ–Њ, –Њ—Б–Њ–±—Л–µ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–∞: –Љ–Є–ї–Њ—Б–µ—А–і–Є–µ, —Б–Њ—Б—В—А–∞–і–∞–љ–Є–µ, —В–Њ-—Б–µ, –∞ —Г –Љ–µ–љ—П –Є—Е –љ–µ—В, —З—В–Њ –і–µ–ї–∞—В—М, –µ—Б–ї–Є –С–Њ–≥ –љ–µ –і–∞–ї... –Ъ–∞–ґ–і–Њ–Љ—Г —Б–≤–Њ–µ, вАФ –њ–Њ–≤—В–Њ—А–Є–ї–∞ –Њ–љ–∞. вАФ –Р —П —Г—З—Г—Б—М –≤ –Є–љ—П–Ј–µ: –∞–љ–≥–ї–Є–є—Б–Ї–Є–є —П–Ј—Л–Ї, –∞ –њ–Њ—В–Њ–Љ –≤–Њ–Ј—М–Љ—Г –і–Њ–њ–Њ–ї–љ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ —Д—А–∞–љ—Ж—Г–Ј—Б–Ї–Є–є –Є–ї–Є –Є—Б–њ–∞–љ—Б–Ї–Є–є, –µ—Й–µ –љ–µ —А–µ—И–Є–ї–∞.
вАФ –Я–Њ—З–µ–Љ—Г –љ–µ –љ–µ–Љ–µ—Ж–Ї–Є–є?
вАФ –Э–µ –ї—О–±–ї—О —П –µ–≥–Њ. –У—А—Г–±—Л–є –Њ–љ –Ї–∞–Ї–Њ–є-—В–Њ, —Б–Њ–ї–і–∞—Д–Њ–љ—Б–Ї–Є–є.
вАФ –Ь–Њ–ґ–љ–Њ –њ–Њ–і—Г–Љ–∞—В—М, —Е–µ—А—Г–≤–Є–Љ—Л –њ–Њ-–∞–љ–≥–ї–Є–є—Б–Ї–Є –њ–Њ—О—В.
вАФ –Ъ–∞–Ї —Е–µ—А—Г–≤–Є–Љ—Л, —П –љ–µ –Ј–љ–∞—О, –∞ —Б—В–Є—Е–Є –љ–∞ –љ–µ–Љ –Ј–≤—Г—З–∞—В –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–ї–µ–њ–љ–Њ. –Т–Њ—В –њ–Њ—Б–ї—Г—И–∞–є—В–µ.
Then hate me thou wilt, if ever, now.
Now while the world is bent my deeds to cross,
Join with the spite of Fortune, make me bow,
And do not drop in for an after-loss.
–≠—В–Њ –®–µ–Ї—Б–њ–Є—А, —Б–Њ–љ–µ—В –љ–Њ–Љ–µ—А 90, –љ–∞–≤–µ—А–љ–Њ–µ, —Б–∞–Љ—Л–є –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–Є—В—Л–є. –Р –≤–Њ—В –Ю—Б–Ї–∞—А –£–∞–є–ї—М–і:
He did not wear his scarlet coat,
For blood and wine are red?
And blood and wine were on his hands,
When they found him the dead,
The poor dead woman whom he loved,
And murdered in her bad.
–Я—А–Є —З—В–µ–љ–Є–Є —Б—В–Є—Е–Њ–≤ –≥–Њ–ї–Њ—Б –µ–µ —Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–ї—Б—П –љ–Є–ґ–µ, –≥–ї—Г–±–ґ–µ, –Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ–µ–µ, –≤ –љ–µ–Љ —Б–ї—Л—И–∞–ї–Є—Б—М –≤–Є–Њ–ї–Њ–љ—З–µ–ї—М–љ—Л–µ —В–Њ–љ–∞, –∞ –і–Њ–≤–µ—А–Є—В–µ–ї—М–љ–∞—П —И–µ–њ–µ–ї—П–≤–Є–љ–Ї–∞ –Є—Б—З–µ–Ј–ї–∞, –Є –±—Л–ї–Њ –љ–µ–њ–Њ–љ—П—В–љ–Њ, —Б–Њ–Ј–љ–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ –ї–Є –і–µ–≤—Г—И–Ї–∞ –і–µ–ї–∞–µ—В —Н—В–Њ, –Є–ї–Є —З—Г–ґ–µ–Ј–µ–Љ–љ–∞—П —А–µ—З—М –≤–ї–∞—Б—В–љ–Њ –і–Є–Ї—В—Г–µ—В —Б—А–µ–і—Б—В–≤–∞ –і–ї—П —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –≤—Л—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П.
вАФ –Ъ—А–∞—Б–Є–≤–Њ? –Р –≤—Л –љ–∞—Б—З–µ—В —Е–µ—А—Г–≤–Є–Љ–Њ–≤ —Б–Њ–Љ–љ–µ–≤–∞–ї–Є—Б—М. –Р –≤–Њ—В –µ—Й–µ.
My uncle, matchless moral model,
When deathly ill, learned how to make
His friends respect him, bow and coddle вАФ
Of all his ploys, that takes the cake.
To others, this might teach a lesson;
But Lord above, IвАЩd feel such stress in
Having to sit there night and day,
Daring not once to step away.
–Э–µ—Г–ґ–µ–ї–Є –љ–µ —Г–Ј–љ–∞–ї–Є? –Ф–∞ —Н—В–Њ –ґ–µ ¬Ђ–Х–≤–≥–µ–љ–Є–є –Ю–љ–µ–≥–Є–љ¬ї –≤ –њ–µ—А–µ–≤–Њ–і–µ. –Ю–є, —А–µ–±—П—В–∞, –≥–Њ—А–µ –Љ–љ–µ —Б –≤–∞–Љ–Є, —Б–Њ–≤—Б–µ–Љ –≤—Л –Ј–∞—А–∞–±–Њ—В–∞–ї–Є—Б—М, –њ—А–µ–Ї—А–∞—Б–љ–Њ–µ –Ј–∞–±—Л–≤–∞—В—М –љ–∞—З–∞–ї–Є!
¬Ђ–†–µ–±—П—В–∞¬ї —Б–Љ—Г—В–Є–ї–Є—Б—М –Є –Њ–њ–µ—З–∞–ї–Є–ї–Є—Б—М: –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ, —З—В–Њ –Њ–љ–Є –≤ –ґ–Є–Ј–љ–Є –≤–Є–і—П—В, —А–∞–±–Њ—В–∞, —Б–µ–Љ—М—П, –і–Њ–Љ–∞—И–љ–Є–µ —Е–ї–Њ–њ–Њ—В—Л, –љ—Г, —В–µ–ї–µ–≤–Є–Ј–Њ—А, –≥–∞–Ј–µ—В–∞, –љ—Г, —Б –і—А—Г–Ј—М—П–Љ–Є –Є–љ–Њ–≥–і–∞ –њ–Њ—Б–Є–і–Є—И—М, –≤—Л–њ—М–µ—И—М, –њ—Г–ї—М–Ї—Г —А–∞—Б–њ–Є—И–µ—И—М, –љ–∞ —Д—Г—В–±–Њ–ї –њ–Њ–є–і–µ—И—М, —З—В–Њ–±—Л –Є–Ј –і–Њ–Љ—Г –≤—Л—А–≤–∞—В—М—Б—П –Є –∞–і—А–µ–љ–∞–ї–Є–љ —Б—В—А–∞–≤–Є—В—М вАФ –Є –≤—Б–µвА¶ –£–ґ–µ ¬Ђ–Х–≤–≥–µ–љ–Є—П –Ю–љ–µ–≥–Є–љ–∞¬ї –љ–∞ –∞–љ–≥–ї–Є–є—Б–Ї–Њ–Љ –љ–µ —А–∞—Б–њ–Њ–Ј–љ–∞–ї–Є, –∞, –≥–ї—П–і–Є—И—М, –µ—Й–µ —З–µ—А–µ–Ј –њ–∞—А—Г-—В—А–Њ–є–Ї—Г –ї–µ—В –Є –љ–∞ —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–Љ –±—Г–і–µ—В —В–Њ –ґ–µ —Б–∞–Љ–Њ–µ.
–І—В–Њ–±—Л —Г–є—В–Є –Њ—В –Љ—А–∞—З–љ—Л—Е –Љ—Л—Б–ї–µ–є, –љ–∞–ї–Є–ї–Є –њ–Њ –≤—В–Њ—А–Њ–є.
вАФ –Ф–∞–≤–∞–є—В–µ –љ–∞ –±—А—Г–і–µ—А—И–∞—Д—В, вАФ –њ—А–µ–і–ї–Њ–ґ–Є–ї –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А.
вАФ –Ґ–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–µ —Ж–µ–ї–Њ–≤–∞—В—М—Б—П! вАФ –≤—Б–њ–Њ–ї–Њ—И–Є–ї–∞—Б—М –Ы–∞–љ–∞.
вАФ –І—В–Њ –≤—Л, —З—В–Њ –≤—Л, –Ы–∞–љ—Г—Б—П, –љ–µ—В, –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ. –≠—В–Њ —В–∞–Ї, –і–ї—П –Ј–∞–Ї—А–µ–њ–ї–µ–љ–Є—П –і—А—Г–ґ–±—Л.
вАФ –Ы–∞–љ—Г—Б—ПвА¶ –і—А—Г–ґ–±—ЛвА¶ вАФ –њ—А–Њ—И–µ–њ—В–∞–ї–∞ –і–µ–≤—Г—И–Ї–∞. –Э–µ–Њ–ґ–Є–і–∞–љ–љ–Њ –≥—Г–±—Л –µ–µ –Ј–∞–і—А–Њ–ґ–∞–ї–Є, –∞ –≥–ї–∞–Ј–∞ –љ–∞–ї–Є–ї–Є—Б—М —Б–ї–µ–Ј–∞–Љ–Є.
вАФ –І—В–Њ, —З—В–Њ —Б –≤–∞–Љ–Є? вАФ –Ј–∞–≤–Њ–ї–љ–Њ–≤–∞–ї–Є—Б—М –Љ—Г–ґ—З–Є–љ—Л. вАФ –Т–∞–Љ –љ–µ—Е–Њ—А–Њ—И–Њ? –Ь–Њ–ґ–µ—В, —Б–њ—А–Њ—Б–Є—В—М —Г –њ—А–Њ–≤–Њ–і–љ–Є—Ж—Л –≤–∞–ї–µ—А—М—П–љ–Ї–Є?
вАФ –Э–µ—В, –љ–µ—В! вАФ —В—А—П—Е–љ—Г–ї–∞ –Њ–љ–∞ —Б–Љ–Њ–ї—П–љ—Л–Љ–Є –Ї—Г–і—А—П–Љ–Є. вАФ –Ґ–∞–Ї, –≤—Б–њ–Њ–Љ–љ–Є–ї–Њ—Б—МвА¶ –Р, –≥–ї—Г–њ–Њ—Б—В–Є! –£–ґ–µ –њ—А–Њ—И–ї–Њ. –Э–∞–ї–Є–≤–∞–є—В–µ.
–Ъ–Њ–≥–і–∞ –≤—Л–њ–Є–ї–Є, —Б—А–∞–Ј—Г –ґ–µ –њ–Њ—В–µ–њ–ї–µ–ї–Њ –љ–∞ —Б–µ—А–і—Ж–µ –Є —Б—В–∞–ї–Њ –≤–µ—Б–µ–ї–µ–µ, –∞ –±–µ—Б–µ–і–∞ –њ–Њ–Ї–∞—В–Є–ї–∞—Б—М –ї–µ–≥–Ї–Њ –Є, –Ї–∞–Ї –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В—Б—П, –љ–∞ –≤–Њ–ї—М–љ—Г—О —В–µ–Љ—Г. –Х–µ —Ж–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ—Л–Љ –Є —Б–∞–Љ—Л–Љ –∞–Ї—В–Є–≤–љ—Л–Љ —Г—З–∞—Б—В–љ–Є–Ї–Њ–Љ –њ–Њ-–њ—А–µ–ґ–љ–µ–Љ—Г –Њ—Б—В–∞–≤–∞–ї–∞—Б—М –Ы–∞–љ–∞. –£ –љ–µ–µ –±—Л–ї —Б—З–∞—Б—В–ї–Є–≤—Л–є –Є —А–µ–і–Ї–Є–є –і–∞—А: —Е–Њ—В—П –Њ–љ–∞ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї–∞ —Б–Њ –≤—Б–µ–Љ–Є —Б—А–∞–Ј—Г, –Ї–∞–ґ–і–Њ–Љ—Г –Є–Ј –µ–µ —Б–Њ–±–µ—Б–µ–і–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М, —З—В–Њ –Њ–љ–∞ –Њ–±—А–∞—Й–∞–µ—В—Б—П –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –Ї –љ–µ–Љ—Г –Є —Г–ї—Л–±–∞–µ—В—Б—П –µ–Љ—Г –±–Њ–ї—М—И–µ, —З–µ–Љ –і—А—Г–≥–Є–Љ. –Ш –њ–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –ї—О–±–Њ–є –Є–Ј –љ–Є—Е —З—Г–≤—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї —Б–≤–Њ–µ –њ—А–µ–≤–Њ—Б—Е–Њ–і—Б—В–≤–Њ –Є –њ–Њ–≥–ї—П–і—Л–≤–∞–ї –љ–∞ —Б–≤–Њ–Є—Е –њ–Њ–њ—Г—В—З–Є–Ї–Њ–≤ —З—Г—В—М —Б–≤—Л—Б–Њ–Ї–∞ –Є —Б–љ–Є—Б—Е–Њ–і–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ. –Ш –µ–µ –Њ–±—А–∞—Й–µ–љ–Є–µ ¬Ђ—А–µ–±—П—В–∞¬ї, –Є –љ–µ–њ—А–Є–љ—Г–ґ–і–µ–љ–љ—Л–є –њ–µ—А–µ—Е–Њ–і ¬Ђ–љ–∞ —В—Л¬ї –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—П–ї–Є –Ї–∞–ґ–і–Њ–Љ—Г —З—Г–≤—Б—В–≤–Њ–≤–∞—В—М —Б–µ–±—П –Љ–Њ–ї–Њ–і—Л–Љ, —Б—В—А–Њ–є–љ—Л–Љ –Є –љ–µ–Њ—В—А–∞–Ј–Є–Љ–Њ –≥–Њ–ї—Г–±–Њ–≥–ї–∞–Ј—Л–Љ. –Ш –Ј–∞–±—Л–≤–∞–ї–Њ—Б—М –≤—Б–µ –≥—А—Г—Б—В–љ–Њ–µ –Є –љ–µ–њ—А–Є—П—В–љ–Њ–µ: —А–∞–љ–Њ –њ–Њ—Б–µ–і–µ–≤—И–Є–µ –≤–Є—Б–Ї–Є, –Љ–Њ—А—Й–Є–љ–Ї–Є –≤–Њ–Ј–ї–µ –≥–ї–∞–Ј, –љ–Њ—О—Й–Є–µ –Ј—Г–±—Л –Є –∞—А—В–µ—А–Є–∞–ї—М–љ–Њ–µ –і–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ, —Б–Ї–∞—З—Г—Й–µ–µ –њ—А–Є –њ–µ—А–µ–Љ–µ–љ–µ –њ–Њ–≥–Њ–і—Л, –њ–µ—А–µ–њ–∞–ї–Ї–∞—Е —Б –ґ–µ–љ–Њ–є –Є–ї–Є –≤—Л–≤–Њ–ї–Њ—З–Ї–µ –Њ—В –љ–∞—З–∞–ї—М—Б—В–≤–∞вА¶ –Ш –Ї–∞–ґ–і—Л–є –≤–µ—А–Є–ї –Є —Г–±–µ–ґ–і–∞–ї—Б—П: –µ—Б—В—М –≤ –љ–µ–Љ —З—В–Њ-—В–Њ —В–∞–Ї–Њ–µ, —В–Њ –Њ—Б–Њ–±–Њ–µ –Љ—Г–ґ—Б–Ї–Њ–µ –љ–∞—З–∞–ї–Њ, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ —В–∞–Ї —Ж–µ–љ—П—В –ґ–µ–љ—Й–Є–љ—Л, –µ—Б–ї–Є –Њ–љ–Є, –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, —А—Г–±—П—В —Д–Є—И–Ї—Г –≤ –Љ—Г–ґ–Є–Ї–∞—Е вАФ –Ї–∞–Ї, –љ–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, —Н—В–∞ –Ы–∞–љ–∞вА¶
–С–µ—Б–µ–і–∞ –Ј–∞—В—П–љ—Г–ї–∞—Б—М –Ј–∞–њ–Њ–ї–љ–Њ—З—М, –њ–Њ–Ї–∞, –љ–∞–Ї–Њ–љ–µ—Ж, –і–µ–≤—Г—И–Ї–∞ —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї–∞:
вАФ –Т—Б–µ, —А–µ–±—П—В–∞! –Ш–Ј–≤–Є–љ–Є—В–µ, –љ–Њ —Г –Љ–µ–љ—П —Г–ґ–µ –≥–ї–∞–Ј–∞ —Б–ї–Є–њ–∞—О—В—Б—П. –Я–Њ–Ї—Г—А–Є—В–µ –≤ —В–∞–Љ–±—Г—А–µ –Љ–Є–љ—Г—В –њ—П—В–љ–∞–і—Ж–∞—В—М. –ѓ –њ–µ—А–µ–Њ–і–µ–љ—Г—Б—М –Є —Б–њ–∞—В—М –ї—П–≥—Г. –Ь–Њ–ґ–µ—В–µ –≤—Е–Њ–і–Є—В—М –±–µ–Ј —Б—В—Г–Ї–∞: –≤—Б–µ —А–∞–≤–љ–Њ –љ–µ —Г—Б–ї—Л—И—Г.
–Ш –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Љ—Г–ґ—З–Є–љ—Л –≤–µ—А–љ—Г–ї–Є—Б—М, –і–µ–≤—Г—И–Ї–∞ —Г–ґ–µ —Б–њ–∞–ї–∞, —Г—В–Ї–љ—Г–≤—И–Є—Б—М –љ–Њ—Б–Њ–Љ –≤ –њ–ї–∞—Б—В–Љ–∞—Б—Б–Њ–≤—Г—О –Њ–±–ї–Є—Ж–Њ–≤–Ї—Г –Ї—Г–њ–µ.
–Р –љ–∞–Ј–∞–≤—В—А–∞ –Њ–љ–∞, —Г–ґ–µ —Г—Б–њ–µ–≤ –њ–Њ–Љ—Л—В—М—Б—П, –њ—А–Є—З–µ—Б–∞—В—М—Б—П –Є –≤–Њ—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞—В—М—Б—П –Љ–∞–Ї–Є—П–ґ–µ–Љ, –љ–Њ –≤—Б–µ –µ—Й–µ –≤ –і–Њ–Љ–∞—И–љ–µ–Љ —Е–∞–ї–∞—В–µ, —А–∞–Ј–±—Г–і–Є–ї–∞ —Б–≤–Њ–Є—Е —Б–њ—Г—В–љ–Є–Ї–Њ–≤:
вАФ –Я–Њ—А–∞, —А–µ–±—П—В–∞! –Ъ–Є–µ–≤ –±–ї–Є–Ј–Ї–Њ. –Ш—И—М, —А–∞–Ј–Њ—Б–њ–∞–ї–Є—Б—М! –°–Ї–Њ—А–Њ —В—Г–∞–ї–µ—В—Л –Ј–∞–Ї—А–Њ—О—В, –њ—А–Њ–≤–Њ–і–љ–Є—Ж–∞ —Г–ґ–µ –њ—А–µ–і—Г–њ—А–µ–ґ–і–∞–ї–∞. –Ш –±–Є–ї–µ—В—Л –њ—А–Є–љ–µ—Б–ї–∞, –≤–Њ—В –Њ–љ–Є –љ–∞ —Б—В–Њ–ї–Є–Ї–µ –ї–µ–ґ–∞—В.
–Р –Ї–Њ–≥–і–∞ –і–Њ –Љ–µ—Б—В–∞ –њ—А–Є–±—Л—В–Є—П –Њ—Б—В–∞–≤–∞–ї–Є—Б—М —Б—З–Є—В–∞–љ–љ—Л–µ –Љ–Є–љ—Г—В—Л, –Ы–∞–љ–∞ –њ–Њ–њ—А–Њ—Б–Є–ї–∞:
вАФ –Я–Њ—Б—В–Њ–є—В–µ –љ–µ–Љ–љ–Њ–≥–Њ –≤ –Ї–Њ—А–Є–і–Њ—А–µ, —А–µ–±—П—В–∞. –ѓ –њ–µ—А–µ–Њ–і–µ–љ—Г—Б—М.
–Ь–Є–љ—Г—В —З–µ—А–µ–Ј –њ—П—В—М –Њ–љ–∞ –≤—Л—Б–Ї–Њ—З–Є–ї–∞ –Є–Ј –Ї—Г–њ–µ, –≤–Њ–ї–Њ—З–∞ —Б–≤–Њ—О —В—П–ґ–µ–ї—Г—О –і–Њ—А–Њ–ґ–љ—Г—О —Б—Г–Љ–Ї—Г.
вАФ –Т—Б–µ, —А–µ–±—П—В–∞, —П –њ–Њ–±–µ–ґ–∞–ї–∞. –Ь–љ–µ –±—Л –њ–Њ–і—А—Г–≥—Г –љ–µ –њ–Њ—В–µ—А—П—В—М, –Њ–љ–∞ –Ъ–Є–µ–≤–∞ –љ–µ –Ј–љ–∞–µ—ВвА¶ –Ф–Њ —Б–≤–Є–і–∞–љ–Є—П, —Б–њ—Г—В–љ–Є–Ї–Є. –°–њ–∞—Б–Є–±–Њ –Ј–∞ –Ї–Њ–Љ–њ–∞–љ–Є—О. –ѓ –њ—А–µ–Ї—А–∞—Б–љ–Њ –њ—А–Њ–≤–µ–ї–∞ –≤—А–µ–Љ—П. –Ф–∞—Б—В –С–Њ–≥, –µ—Й–µ –≤—Б—В—А–µ—В–Є–Љ—Б—П. –Р –њ–Њ–Ї–∞, —Е–Њ—В–Є—В–µ вАФ –Ј–≤–Њ–љ–Є—В–µ, —В–µ–ї–µ—Д–Њ–љ —П –Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї–∞. –Э—Г, good buy, boys!
–Ш –Ы–∞–љ–∞ –Є—Б—З–µ–Ј–ї–∞.
вАФ –Ф–∞-–∞-–∞, вАФ –њ–µ—З–∞–ї—М–љ–Њ –њ—А–Њ—В—П–љ—Г–ї –Р—А—В–µ–Љ. вАФ –Т—Б—П –љ–∞—И–∞ –ґ–Є–Ј–љ—М вАФ –≤—Б—В—А–µ—З–Є –Є —А–∞—Б—Б—В–∞–≤–∞–љ–Є—П, –Є —А–∞—Б—Б—В–∞–≤–∞–љ–Є–є –±–Њ–ї—М—И–µ, —З–µ–Љ –≤—Б—В—А–µ—З.
вАФ –І—В–Њ-—В–Њ –≤–∞—Б, –Р—А—В–µ–Љ –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤–Є—З, –љ–∞ –њ–Њ—Н–Ј–Є—О –њ–Њ—В—П–љ—Г–ї–Њ? вАФ –µ—Е–Є–і–љ–Њ —Б–њ—А–Њ—Б–Є–ї –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А. вАФ –Э–µ—Г–ґ–µ–ї–Є –Ы–∞–љ–Њ—З–Ї–∞ —В–∞–Ї –њ–Њ–≤–ї–Є—П–ї–∞? –Т–Њ—В –ґ–µ–љ–∞ –Ј–∞–Љ–µ—В–Є—В, –љ–µ –Њ–±–µ—А–µ—В–µ—Б—М. –°–Љ–Њ—В—А–Є—В–µ, –Њ–љ–∞ –±–Є–ї–µ—В –Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї–∞. –•–Њ—В—П –Ј–∞—З–µ–Љ –Њ–љ –µ–є? –≠—В–Њ –љ–∞–Љ –і–ї—П –Њ—В—З–µ—В–∞ –љ—Г–ґ–љ–Њ. вАФ –Ю–љ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–Є–ї —Б–≤–Њ–є –±–Є–ї–µ—В –≤ –±—Г–Љ–∞–ґ–љ–Є–Ї –Є –≤–і—А—Г–≥ —Г–і–Є–≤–ї–µ–љ–љ–Њ —Б–њ—А–Њ—Б–Є–ї: вАФ –Я–Њ–Ј–≤–Њ–ї—М—В–µ, –∞ –≥–і–µ –Љ–Њ–Є –і–µ–љ—М–≥–Є?
вАФ –У–і–µ –≤ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–Њ–≤–Ї–∞—Е –Љ—Г–ґ–Є–Ї–Є –і–µ–љ—М–≥–Є –Њ—Б—В–∞–≤–ї—П—О—В вАФ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ–µ –і–µ–ї–Њ, вАФ —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї –Р—А—В–µ–Љ –≤ –Њ—В–Љ–µ—Б—В–Ї—Г –Ј–∞ –њ—А–µ–і—Л–і—Г—Й—Г—О —А–µ–њ–ї–Є–Ї—Г. вАФ –Р –≤ –і–µ—В–∞–ї—П—Е —В–µ–±–µ –≤–Є–і–љ–µ–µ.
вАФ –Ґ—Л –њ–Њ–≥–Њ–і–Є —И—Г—В–Є—В—М! –ѓ –њ–Њ–Љ–љ—О, —Г –Љ–µ–љ—П –≤ –±—Г–Љ–∞–ґ–љ–Є–Ї–µ —А—Г–±–ї–µ–є –њ—П—В—М–і–µ—Б—П—В –ї–µ–ґ–∞–ї–Њ. –Ш –Ї–Њ–≥–і–∞ —П –Ј–∞ –њ–Њ—Б—В–µ–ї—М –њ–ї–∞—В–Є–ї, —П –Є—Е –≤–Є–і–µ–ї. –Р —В–µ–њ–µ—А—М —В–∞–Љ –њ—П—В–µ—А–Ї–∞, –Є –≤—Б–µвА¶ –Ф–∞ –≤—Л —Б–≤–Њ–Є –Ї–∞—А–Љ–∞–љ—Л –њ—А–Њ–≤–µ—А—М—В–µ!
вАФ –Ю–є, –Є —Г –Љ–µ–љ—П —В—А–Є —А—Г–±–ї—П –Њ—Б—В–∞–ї–Њ—Б—М! вАФ –∞—Е–љ—Г–ї –Р—А—В–µ–Љ.
вАФ –Ш —Г –Љ–µ–љ—П —В–Њ–ґ–µ —Б–∞–Љ–Њ–µ, вАФ –Њ—В–Њ–Ј–≤–∞–ї—Б—П –Љ–Њ—Б–Ї–≤–Є—З. вАФ –Т—Л-—В–Њ –і–Њ–Љ–Њ–є –µ–і–µ—В–µ, –∞ –Ї–∞–Ї —П –≤ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–Њ–≤–Ї–µ –ґ–Є—В—М –±—Г–і—Г? –Ґ—А–µ—И–Ї–∞, –њ—А–∞–≤–і–∞ –≤–Њ—ВвА¶ –Э–µ –Ј–∞–Љ–µ—В–Є–ї–∞, –∞ –Љ–Њ–ґ–µ—В, –љ–∞ —В–∞–Ї—Б–Є –Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї–∞, –і–Њ–±—А–∞—П –і—Г—И–∞вА¶ –Ш–ї–Є –Ј–∞ –Њ–±—Й–µ–љ–Є–µ –Ј–∞–њ–ї–∞—В–Є–ї–∞вА¶ –Ъ–∞–Ї –Љ—Г–ґ–Є–Ї–Є, –Ј–љ–∞–µ—В–µ, –Ї–Њ–Љ—ГвА¶
вАФ –Ч–љ–∞—З–Є—В, —В–Њ—З–љ–Њ —Н—В–Њ –Њ–љ–∞, –Ы–∞–љ–∞! –Э—Г–ґ–љ–Њ –і–Њ–≥–љ–∞—В—М –µ–µ! –ѓ –±–µ–≥—Г –≤ –њ–µ—А–µ–і–љ–Є–µ –≤–∞–≥–Њ–љ—Л, –∞ –≤—Л вАФ –≤ –Ј–∞–і–љ–Є–µ! –£–±—М—О –µ–µ, –Ј–∞—А–∞–Ј—Г!
вАФ –Р, –µ—А—Г–љ–і–∞! –Т–Њ-–њ–µ—А–≤—Л—Е, –≥–і–µ –µ–µ –Є—Б–Ї–∞—В—М, –≤–∞–≥–Њ–љ–Њ–≤ –≤–Њ–љ —Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ. –Я–Њ–Ї–∞ –≤—Б–µ –Њ–±–µ–ґ–Є–Љ, –њ–Њ–µ–Ј–і –Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В—Б—П, –Є—Й–Є-—Б–≤–Є—Й–Є –µ–µ –љ–∞ –њ–µ—А—А–Њ–љ–µ вАФ –≤–Њ—В –Њ–љ, –Ї—Б—В–∞—В–Є, —Г–ґ–µ –њ–Њ—З—В–Є –њ—А–Є–µ—Е–∞–ї–Є. –Ш –і–∞–ґ–µ, –µ—Б–ї–Є –љ–∞–є–і–µ–ЉвА¶ –Ф–µ–љ—М–≥–Є вАФ –љ–µ –і—А–∞–≥–Њ—Ж–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є. –І—В–Њ —Г –љ–∞—Б –љ–Њ–Љ–µ—А–∞ –Ј–∞–њ–Є—Б–∞–љ—Л? –°–Ї–∞–ґ–µ—В, —З—В–Њ —Н—В–Њ –µ–µ, –Ї—А–Њ–≤–љ—Л–µ, —В—П–ґ–Ї–Є–Љ —В—А—Г–і–Њ–Љ, –Ї–ї–Є–Ј–Љ–∞–Љ–Є –і–∞ –њ–Є—П–≤–Ї–∞–Љ–Є, –Ј–∞—А–∞–±–Њ—В–∞–љ–љ—Л–µ –Є –Ї –Њ—В–њ—Г—Б–Ї—Г –љ–∞–Ї–Њ–њ–ї–µ–љ–љ—Л–µ. –Р –Љ–Њ–ґ–µ—В, –Њ–љ–∞ –Є—Е –і–∞–≤–љ–Њ –њ–Њ–і—А—Г–≥–µ –њ–µ—А–µ–і–∞–ї–∞ –Є–ї–Є –Љ—Г–ґ–Є–Ї—Г –Ї–∞–Ї–Њ–Љ—Г-–љ–Є–±—Г–і—М, —Б–≤–Њ–µ–Љ—Г –њ–Њ–і–µ–ї—М—Й–Є–Ї—Г. –Э–∞–≤–µ—А–љ–Њ–µ, –Є—Е —В—Г—В —Ж–µ–ї–∞—П –Ї–Њ–і–ї–∞, –±—Г–і–µ—В, –Ї–Њ–Љ—Г –Ј–∞ –љ–µ—Б—З–∞—Б—В–љ—Г—О –і–µ–≤—Г—И–Ї—Г –Ј–∞—Б—В—Г–њ–Є—В—М—Б—П, —В–∞–Ї —З—В–Њ –њ–Њ –Љ–Њ—А–і–µ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –≤–њ–Њ–ї–љ–µ —Б—Е–ї–Њ–њ–Њ—В–∞—В—М, –∞ —В–Њ –Є –љ–Њ–ґ –≤ –±—А—О—Е–Њ. –Ш –ґ–∞–ї–Њ–≤–∞—В—М—Б—П –љ–µ –љ–∞ –Ї–Њ–≥–Њ: –њ–∞—Б–њ–Њ—А—В —Г –љ–µ–µ, –≥–∞–і—О–Ї–Є, –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, –≤ –њ–Њ—А—П–і–Ї–µ, –Є –њ—А–Њ–њ–Є—Б–Ї–∞, –Є —И—В–∞–Љ–њ —Б –Љ–µ—Б—В–∞ —А–∞–±–Њ—В—Л, –∞ —З—В–Њ —В–∞–Љ –љ–µ –°–≤–µ—В–ї–∞–љ–∞ –Є –љ–µ 1956-–є –≥–Њ–і, —Н—В–Њ —В–Њ—З–љ–Њ. –Ш –≤ –Љ–Є–ї–Є—Ж–Є–Є –љ–∞ –љ–µ–µ –љ–Є—З–µ–≥–Њ –љ–µ—В. –Я—А–Є–≤–µ—В, —А–µ–±—П—В–∞: –њ–ї–∞–Ї–∞–ї–Є –љ–∞—И–Є –і–µ–љ–µ–ґ–Ї–Є. –Ґ—Л, –Ы–µ–Њ–љ–Є–і, –љ–µ –±–Њ–є—Б—П. –Ь—Л —В–µ–±–µ –љ–∞ –њ–µ—А–≤—Л—Е –њ–Њ—А–∞—Е –њ–Њ–Љ–Њ–ґ–µ–Љ, –њ–Њ–Ї–∞ –Є–Ј –і–Њ–Љ—Г –љ–µ –њ—А–Є—И–ї—О—В. –Э–Њ, –њ–Њ–і—Г–Љ–∞–є—В–µ, –Ї–∞–Ї–∞—П –Ї–ї–∞—Б—Б–љ–∞—П –і—А—П–љ—М, –∞–≤–∞–љ—В—О—А–Є—Б—В–Ї–∞! –Я—А–Њ—Б–ї–µ–Ј–Є–ї–∞—Б—М –Њ—В –Є–Ј–±—Л—В–Ї–∞ —З—Г–≤—Б—В–≤, –®–µ–Ї—Б–њ–Є—А–∞ –љ–∞–Љ —З–Є—В–∞–ї–∞, –Я—Г—И–Ї–Є–љ–∞!
вАФ –Р —В—Л —Е–Њ—В–µ–ї, —З—В–Њ–±—Л –Њ–љ–∞ –®–µ–є–љ–Є–љ–∞ –Є–ї–Є –Р–≥–∞—В—Г –Ъ—А–Є—Б—В–Є —З–Є—В–∞–ї–∞? –Ш–ї–Є ¬Ђ–Ь—Г—А–Ї—Г¬ї —Б–њ–µ–ї–∞? –Э–Њ –Љ—Л-—В–Њ, –Љ—Л-—В–Њ —Е–Њ—А–Њ—И–Є! –£—И–Є —А–∞–Ј–≤–µ—Б–Є–ї–Є, –≥—Г–±—Л —А–∞—Б–њ—Г—Б—В–Є–ї–Є, —А–∞—Б—Б–ї–∞–±–Є–ї–Є—Б—МвА¶ –Т–Ј—А–Њ—Б–ї—Л–µ –ї—О–і–Є, –Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–µ, –Љ–Њ–ґ–љ–Њ —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М, —А–∞–±–Њ—В–љ–Є–Ї–ЄвА¶ –С—Г–і—В–Њ —Б–Љ–∞–Ј–ї–Є–≤–Њ–є –і–µ–≤–Ї–Є –љ–Є–Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–µ –≤–Є–і–µ–ї–ЄвА¶ –Р—Е, –і—Г—А–∞–Ї–Є, –і—Г—А–∞–Ї–Є!
вАФ –Ф—Г-—А–∞-–Ї–Є, –і—Г-—А–∞-–Ї–Є, вАФ –≤ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–є —А–∞–Ј –њ–Њ–і—В–≤–µ—А–і–Є–ї–Є –Ї–Њ–ї–µ—Б–∞, –њ–Њ–µ–Ј–і –і–µ—А–љ—Г–ї—Б—П –Є –Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–ї—Б—П.