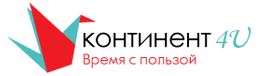–Γ–ï–†–™–ï–ô –Γ–¦–ï–ü–Θ–Ξ–‰–ù

–Γ–Β―Ä–≥–Β–Ι –Γ–Μ–Β–Ω―É―Ö–Η–Ϋ βÄî –Β–Κ–Α―²–Β―Ä–Η–Ϋ–±―É―Ä–≥―¹–Κ–Η–Ι –Ω–Ψ―ç―² –Η ―Ö―É–¥–Ψ–Ε–Ϋ–Η–Κ. –†–Ψ–¥–Η–Μ―¹―è –≤ 1961 –≥. –≤ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Β –ê―¹–±–Β―¹―²–Β –Γ–≤–Β―Ä–¥–Μ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–Ι –Ψ–±–Μ–Α―¹―²–Η. –ü–Ψ―¹–Μ–Β –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Α–Ϋ–Η―è –Γ–≤–Β―Ä–¥–Μ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Β–¥–Η―Ü–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Η–Ϋ―¹―²–Η―²―É―²–Α –Η –Α―¹–Ω–Η―Ä–Α–Ϋ―²―É―Ä―΄ –Ω―Ä–Β–Ω–Ψ–¥–Α–≤–Α–Μ –Ϋ–Α –Κ–Α―³–Β–¥―Ä–Β ―³–Η–Ζ–Η–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η–Η ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α, ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Μ –Ω―Ä–Α–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Φ –≤―Ä–Α―΅–Ψ–Φ. –ê–≤―²–Ψ―Ä ―à–Β―¹―²–Η ―¹–±–Ψ―Ä–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ ―¹―²–Η―Ö–Ψ–≤ –Η ―²―Ä–Β―Ö –Κ–Ϋ–Η–≥ ―ç―¹―¹–Β, –Ψ–Ω―É–±–Μ–Η–Κ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –≤ –†–Ψ―¹―¹–Η–Η –Η –Γ–®–ê.
–½–ê–î–ï–†–•–ö–ê –î–Ϊ–Ξ–ê–ù–‰–·
***
–≠―²–Ψ ―³–Α–Κ―²―É―Ä–Α –£―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η. –Δ–Α–Κ –Ϋ–Β ―¹―²–Β―¹–Ϋ―è–Ι―¹―è, ―â―É–Ω–Α–Ι.
–ü―²–Η―Ü―΄ –Μ–Β―²―è―² –Ϋ–Α –Γ–Β–≤–Β―Ä, ―Ä–Β–Κ–Η ―²–Β–Κ―É―² –≤―¹–Ω―è―²―¨,
–‰ –Ω–Β―Ä–Β–Κ―Ä–Α–Η–≤–Α―²―¨ ―Ä–Β―΅―¨ –≤ –Ω–Ψ–Η―¹–Κ–Α―Ö ―¹–Φ―΄―¹–Μ–Α –≥–Μ―É–Ω–Ψ.
–î–≤–Α–Ε–¥―΄ –Μ–Η –¥–≤–Α ―΅–Β―²―΄―Ä–Β? –· ―¹–Ψ–Φ–Ϋ–Β–≤–Α―é―¹―¨, –Ω―è―²―¨!
–Γ–Μ–Ψ–≤–Ψ βÄ™ –±―΄―΅–Ψ–Κ –Ϋ–Α –≤–Β―Ä–Β–≤–Κ–Β? –Δ―΄ –Ω―Ä–Η–≥–Μ―è–¥–Η―¹―¨ βÄ™ –°–Ω–Η―²–Β―Ä.
–™―Ä–Ψ–Φ―΄ –Ω–Α–¥–Α―é―² –≤ ―É―Ö–Ψ, –Φ–Ψ–Μ–Ϋ–Η–Η –Φ–Β―²―è―² –≤ –≥–Μ–Α–Ζ.
–ï–Ε–Β–Μ–Η –≥–Μ–Α–Ζ –Ϋ–Β ―¹–Μ–Β–Ω, –Β–Ε–Β–Μ–Η ―É―Ö–Ψ –Ϋ–Β –≥–Μ―É―Ö–Ψ,
–‰ –™–Α–Μ–Η–Μ–Β–Ι –Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ―¹–Ω–Α–Μ –£―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η –Ζ–≤–Β–Ζ–¥–Ϋ―΄–Ι ―΅–Α―¹.
–Γ―É–Φ―Ä–Α―΅–Ϋ―΄–Ι ―΅–Α―¹–Ψ―¹–Μ–Ψ–≤ –¦–Η–Φ–±―É―Ä–≥–Η –Ω–Η―à―É―² –Ϋ―΄–Ϋ–Β:
–ê–Ϋ–≥–Β–Μ―΄-–Η―¹―²―Ä–Β–±–Η―²–Β–Μ–Η, –Ω―Ä–Α–≤–Ψ ―¹–Μ–Α–≤―è―â–Η–Ι –Ψ―Ä.
–Γ–Μ―΄―à–Η―à―¨ ―Ä–Ψ–Κ–Ψ―² –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄ –Ω–Ψ–¥ –Ω―è―²―΄–Φ ―Ä–Β–±―Ä–Ψ–Φ –≤ –Ω―É―¹―²―΄–Ϋ–Β,
–€―é–Ζ–Η–Κ–Μ –Ϋ–Α –î―É–±―Ä–Ψ–≤–Κ–Β, –±–Β―¹–Μ–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι –Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Ϋ―΄–Ι ―Ö–Ψ―Ä?
–†–Ψ–¥–Η–Ϋ―΄ ―Ä–Β–Ζ–Ψ–Κ βÄ€―ÄβÄù, –Ω―΄–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ψ―² ―¹–Μ–Ψ–≤–Α βÄ€–ü―É―²–Η–ΫβÄù,
–û―¹–Η–Ω –Ψ―¹–Η–Ω, ―¹–Η–Ω–Η―². –û―¹–Β–Ϋ―¨ –Ω–Ψ–¥ ―¹–Β–Ϋ―¨―é ―¹–Ω–Η―².
–£―΄―Ä–Ψ–¥–Ψ–Κ –Α―Ä―Ö–Β―²–Η–Ω –≤–Ψ–Μ–Κ–Ψ–Φ –≥–Μ―è–¥–Η―² –Η–Ζ –±―É–¥–Β–Ϋ,
–ö–Ψ―Ä–Ϋ–Η –≤ –Ω–Ψ–¥–Ζ–Ψ–Μ –Ω―É―¹―²–Η–Μ ―Ä–Β―΅–Η ―΅―É–Ε–Ψ–Ι –Ψ–±―â–Β–Ω–Η―².
–ù–Ψ –Ψ―â―É―â–Α–Β―² –Ω–Μ–Ψ―²–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –≤–Ϋ–Β–Κ–Α–Μ–Β–Ϋ–¥–Α―Ä–Ϋ―΄–Ι –Ω―Ä–Η–Ζ―Ä–Α–Κ,
–ü–Α―É–Ζ –Φ–Ψ–≥–Η–Μ –Ψ―²–≤–Β―Ä―¹―²―΄―Ö –Ω―Ä–Β–≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–≥–Α―è ―²―¨–Φ―É,
–£–Ϋ–Ψ–≤―¨ –Ψ–±―Ä–Β―²–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –Γ–Μ–Ψ–≤–Ψ, –Η –Ψ―²–Φ–Β–Ϋ―è–Β―²―¹―è ―²―Ä–Η–Ζ–Ϋ–Α.
–ë―΄–Μ–Ψ –±―΄ βÄ€–ê–Μ–Μ–Η–Μ―É–Ι―èβÄù –≤–Ϋ―è―²–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Ω–Β―²―¨ –Κ–Ψ–Φ―ÉβÄΠ
***
–ê–Ω―Ä–Β–Μ―¨, ―΅–Β―Ä–Ϋ–Ψ―²―Ä–Ψ–Ω, ―¹–Ϋ–Β–≥ ―¹–Ψ―à―ë–Μ, –Ϋ–Ψ –Β–¥–≤–Α –Μ–Η
–Γ–Ψ―¹–Β–¥―¹–Κ–Η–Β –Φ―΄―à–Η –Ω―Ä–Ψ―¹–Ψ―Ö–Μ–Η –≤ –Ω–Ψ–¥–≤–Α–Μ–Β.
–ê ―²―΄ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―à―¨, –Ϋ–Α―¹―²―É–Ω–Η–Μ–Α –≤–Β―¹–Ϋ–Α!
–Λ–Α–Μ―¨―à–Η–≤–Α –≤ –Ϋ–Α–Ω―É–¥―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ –Ϋ–Β–±–Β –±–Μ–Β―¹–Ϋ–Α.
–ù–Β –Ω―è–Μ―¨―¹―è –≤ –Ψ–Κ–Ψ―à–Κ–Ψ, –Ω–Μ–Β―¹–Ϋ–Η –¥–Μ―è ―¹―É–≥―Ä–Β–≤–Α
–£ –≥―Ä–Α–Ϋ―ë–Ϋ―΄–Ι ―¹―²–Α–Κ–Α–Ϋ―΅–Η–Κ, ―΅―²–Ψ –Ω―΄–Ε–Η―²―¹―è ―¹–Μ–Β–≤–Α,
–Ξ–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ϋ―É―é –≤–Ψ–¥–Κ―É, ―¹―²―É–¥―ë–Ϋ―É―é ―Ä―²―É―²―¨.
–ß―²–Ψ –±―΄–Μ–Ψ βÄ™ ―²–Ψ ―¹–Ω–Μ―΄–Μ–Ψ, –Ζ–Η–Φ―΄ –Ϋ–Β –≤–Β―Ä–Ϋ―É―²―¨.
–î–Μ―è –Ϋ–Α―¹ –Φ–Β–Ε―¹–Β–Ζ–Ψ–Ϋ―¨―è –Ω―Ä–Η–≤―΄―΅–Ϋ–Α –Ζ–Α–Κ―É―¹–Κ–Α:
–£ –Ψ–Κ―É―Ä–Κ–Α―Ö –Α―¹―³–Α–Μ―¨―² –Η –Ζ–Β–Φ–Μ―è, –Κ–Α–Κ –Ζ―É–Μ―É―¹–Κ–Α,
–ß―²–Ψ ―¹―Ö–Ψ–¥–Η―² ―¹ –Ϋ–Β–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Η―΅―¨–Β–≥–Ψ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è.
–Γ–Μ–Β–Ζ―É –Ω―Ä–Ψ–±–Η–≤–Α–Β―², –Η –Ω―Ä–Ψ―¹–Η―²―¹―è βÄ€–±–Μ―èβÄù.
–ê ―²–Α–Κ –Ϋ–Ψ―Ä–Φ–Α–Μ―ë–Κ βÄ™ –Ϋ–Η –Ζ–Η–Φ―΄, –Ϋ–Η ―²–Β–Ω–Μ―΄–Ϋ–Η
–£ –Ζ–Α―²―ë―Ä―²–Ψ–Ι, –Ζ–Α–¥―Ä–Ψ―΅–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Ϋ–Α―à–Β–Ι –Ξ–Α―²―΄–Ϋ–Η,
–Δ–Ψ –Ψ―²―²–Β–Ω–Β–Μ―¨ –≥―Ä―è–Ϋ–Β―², ―²–Ψ –Ω–Ψ–Μ–Ϋ―΄–Ι ―à–Η–Ζ–¥–Β―Ü
–ü–Ψ–¥–Α―Ä–Η―² –≤ ―¹–Ψ―΅–Β–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ –Ω―Ä–Η―ë–Φ–Ϋ―΄–Ι –Ψ―²–Β―Ü.
–Γ–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è –Ϋ–Ψ–Μ―¨ –≥―Ä–Α–¥―É―¹–Ψ–≤, –Ζ–Α–≤―²―Ä–Α βÄ™ –Ε–Α―Ä–Η―â–Α,
–½–Α–Ϋ―΄–Κ–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―²―Ä―ë―à–Ϋ–Η–Κ, –Α –Ζ–Α–≤―²―Ä–Α –Η―Ö ―²―΄―â–Α,
–ê–Ω―Ä–Β–Μ―¨―¹–Κ–Η–Β ―²–Β–Ζ–Η―¹―΄, –Κ–Α–Κ –Ϋ–Η –≤–Β―Ä―²–Η,
–ù–Β–Η―¹–Ω–Ψ–≤–Β–¥–Η–Φ―΄ –≥–Ψ―¹–Ω–Ψ–¥–Ϋ–Η –Ω―É―²–Η.
***
–€–Ψ–Κ–Ϋ―É―² ―è–≥–Β–Μ―¨ –Η –Φ–Ψ―Ä–Ψ―à–Κ–Α,
–Γ–≤–Η―â–Β―² –≤–Β―²–Β―Ä, ―Ö–Μ–Β―â–Β―² –¥–Ψ–Ε–¥―¨.
–Θ –≤–Ψ–Κ–Ζ–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ–Κ–Ψ―à–Κ–Α
–™–Ψ–Μ–Ψ―¹―É–Β―² –±–Β–¥–Ϋ―΄–Ι –≤–Ψ–Ε–¥―¨,
–û―¹–≤–Η–Ϋ―Ü–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Ι, –Ω–Ψ–±–Η―²―΄–Ι,
–ö–Β–Ω–Κ―É –Κ–Ψ–Φ–Κ–Α–Β―² –≤ ―Ä―É–Κ–Β.
–ü–Ψ―¹–Β–Μ–Κ–Ψ–≤―΄–Β –Μ–Ψ–Μ–Η―²―΄
–Δ–Ψ–Ε–Β –Φ–Α―à―É―² –≤–¥–Α–Μ–Β–Κ–Β.
–ù–Ψ –Ω―É―¹―²–Α, –Ω―É―¹―²–Α –¥–Ψ―Ä–Ψ–Ε–Κ–Α,
–ö–Ψ–Μ–Ψ–Κ–Ψ–Μ―¨―΅–Η–Κ –Ϋ–Β –Ζ–≤–Β–Ϋ–Η―²,
–Δ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ, –Κ–Α–Κ ―¹–Μ–Β–Ω–Α―è –Φ–Ψ―à–Κ–Α,
–ü–Α―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ζ –≤–Ω–Β―Ä–Β–¥ –Μ–Β―²–Η―²...
***
–Δ–Α–Κ –Α–Ϋ–≥–Β–Μ ―¹ –Ψ―²–Φ–Ψ―Ä–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Κ―Ä―΄–Μ–Ψ–Φ
–û―¹―²–Α–Μ―¹―è –Ε–Η―²―¨ –Η –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Κ–Η–Ϋ―É–Μ –¥–Ψ–Φ,
–ö―É–¥–Α –Ω―Ä–Η–Ϋ–Β―¹ –±–Μ–Α–≥―É―é –≤–Β―¹―²―¨ –Ψ―² –ë–Ψ–≥–Α.
–Γ―²–Ψ―è–Μ –¥–Β–Κ–Α–±―Ä―¨, –≤–Β―Ä–Ϋ–Β–Β, –≤–Ψ–Ζ–Μ–Β–Ε–Α–Μ,
–‰ ―Ö–Ψ–Μ–Ψ–¥–Α –Ψ―²―²–Ψ―΅–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Κ–Η–Ϋ–Ε–Α–Μ
–Γ–Μ–Β–¥–Η–Μ –Ζ–Α –Ω–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ –Η –±–¥–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Η ―¹―²―Ä–Ψ–≥–Ψ.
–ê –Ζ–Α –Ψ–Κ–Ψ―à–Κ–Ψ–Φ ―²―Ä–Α–Κ―²–Ψ―Ä –≤–Φ–Β―Ä–Ζ –≤ ―¹―É–≥―Ä–Ψ–±,
–‰–Ζ ―Ä―É―¹―¹–Κ–Η―Ö –Ω–Β―΅–Β–Κ –≥–Μ–Η–Ϋ―è–Ϋ―΄―Ö ―É―²―Ä–Ψ–±
–Δ―è–Ϋ―É–Μ–Η―¹―¨ –≤ –Ϋ–Β–±–Ψ –Ω―É–Ω–Ψ–≤–Η–Ϋ―΄ –¥―΄–Φ–Α.
–€–Μ–Α–¥–Β–Ϋ–Β―Ü –≤ –Μ―é–Μ―¨–Κ–Β –±–Β–Ζ–Φ―è―²–Β–Ε–Ϋ–Ψ ―¹–Ω–Α–Μ,
–ê ―Ö–≤–Ψ―Ä―΄–Ι –Α–Ϋ–≥–Β–Μ –Κ–Ψ–Μ―΄–±–Β–Μ―¨ –Κ–Α―΅–Α–Μ
–‰ –Ω–Β–Μ –Ψ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨ –Ϋ–Β–Ψ–±―ä―è―¹–Ϋ–Η–Φ–Α,
–ß―²–Ψ –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨ βÄ™ ―¹―É―²―¨ ―²―¨–Φ–Α, –Ω―Ä–Ψ―¹―²―É–¥–Α –Η –Φ–Ψ―Ä–Ψ–Ζ,
–Γ –Ζ–Α–±―΄―²―΄–Φ –Η–Φ–Β–Ϋ–Β–Φ –Ω–Ψ–Κ–Η–Ϋ―É―²―΄–Ι –Κ–Ψ–Μ―Ö–Ψ–Ζ,
–ü–Ψ–¥–≤―΄–Ω–Η–≤―à–Α―è –Κ –Ω―Ä–Α–Ζ–¥–Ϋ–Η–Κ―É –¥–Ψ―è―Ä–Κ–Α,
–ù–Ψ –Β―¹―²―¨ –¥―Ä―É–≥–Η–Β, –Ζ–≤–Β–Ζ–¥–Ϋ―΄–Β –Ω–Ψ–Μ―è,
–ö―É–¥–Α –¥―É―à–Α, –Ψ―²–Φ―É―΅–Α―¹―¨, –Ψ―²–±–Ψ–Μ―è,
–Θ–Ι–¥–Β―² ―¹–≤–Β―²–Η―²―¨ –Η ―Ä–Α–¥–Ψ―¹―²–Ϋ–Ψ, –Η ―è―Ä–Κ–ΨβÄΠ
***
–Ζ–Α―à–Κ–Α–Μ–Η–≤–Α–Β―² –Ω–Α–Φ―è―²―¨ –Α –Ϋ–Α –Κ–Ψ–Ι
–Ω–Ψ–Ι–Φ―ë–Φ –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ω–Ψ–Ι–¥―ë―² –Ϋ–Α ―É–±―΄–Μ―¨
―²―΄ –Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η―à―¨ –Μ―΄―¹–Β–Ϋ―¨–Κ–Η–Ι –Ω―Ä–Η―è―²–Ϋ–Ψ –Κ―Ä―É–≥–Μ―΄–Ι ―Ä―É–±–Μ―¨
–Μ–Η―²–Ψ–Ι ―²―è–Ε―ë–Μ―΄–Ι ―¹ –Η―¹–Κ―Ä–Ψ–Ι –Ψ–≥–Ϋ–Β–≤–Ψ–Ι
–Ϋ–Α ―ç―²–Ψ―² ―Ä―É–±–Μ―¨ –Ψ―²–Β―Ü-–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Ι–Ϋ–Η–Κ –±―Ä–Α–Μ
–Κ―É–Μ―ë–Κ –Κ–Ψ–Ϋ―³–Β―² –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ –±–Β–Ζ –Ψ–±–Β―Ä―²–Ψ–Κ
–Η –Ω―¨―è–Ϋ―΄–Ι –≤–¥―Ä―΄–Ζ–≥ ―¹–Ψ–≤–Α–Μ ―¹―΄–Ϋ―É–Μ–Β ―¹–≤―ë―Ä―²–Ψ–Κ
–Α ―è –±―΄–Μ ―Ä–Α–¥ –Ψ–Ϋ –Ε–Η–≤ –Η –Ζ–Α―¹―΄–Ω–Α–Μ
–Ε―É–Ε–Ε–Α–Μ–Η –±–Β―¹―²–Ψ–Μ–Κ–Ψ–≤–Ψ –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Α
–Ϋ–Α –≤–Ψ–Μ–Ψ–¥–Α―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Α –Φ–Α―²―¨ –±―΄–Μ–Α –≤ –Ψ―²―ä–Β–Ζ–¥–Β
–Ω–Ψ ―è―â–Η–Κ―É –Ψ –¥–≤–Α–¥―Ü–Α―²―¨ ―²―Ä–Β―²―¨–Β–Φ ―¹―ä–Β–Ζ–¥–Β
–±―Ä―é–Ζ–Ε–Α–Μ–Η –±―΄―¹―²―Ä–Ψ –Κ–Α–Ω–Α–Μ–Α –≤–Ψ–¥–Α
–Η–Ζ ―É–Φ―΄–≤–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Α
–Ϋ–Β –Ζ–Α―¹―²–Β–≥–Ϋ―É–≤ ―à–Η―Ä–Η–Ϋ–Κ―É
–Ϋ–Β ―¹–Ϋ―è–≤ ―¹–Α–Ω–Ψ–≥ –≤–Α–Μ–Η–Μ―¹―è –Ϋ–Α –¥–Η–≤–Α–Ϋ
―Ä–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ―¨ –Φ–Ψ–Ι –Ϋ–Β –±–Ψ–Φ–Ε –Ϋ–Β ―É―Ä–Κ–Α–≥–Α–Ϋ
–Α –±–Β–¥–Ϋ―΄–Ι –Φ―É–Ε ―¹–Β―Ä―΅–Α―é―â–Η–Ι –Ϋ–Α –Ϋ–Η–Ϋ–Κ―É
* * *
–™–Μ–Β–±―É –€–Η―Ö–Α–Μ–Β–≤―É
–½–Α–¥–Β―Ä–Ε–Κ–Α –¥―΄―Ö–Α–Ϋ–Η―è. –ù–Β–±–Α –Φ–Ψ–Ϋ–≥–Ψ–Μ―¨―¹–Κ–Η–Β ―¹–Κ―É–Μ―΄,
–ö–Ψ–Ω―΅―ë–Ϋ―΄–Β ―²―Ä―É–±―΄, ¬Ϊ–Ξ–Η–Φ–Φ–Α―à–Α¬Μ –Η―¹―²―ë―Ä―²―΄–Ι –≤–Β–Μ―¨–≤–Β―².
–Θ―¹―²–Α–Μ–Ψ –Ω–Μ–Β―²―ë―²―¹―è –Ϋ–Α –Ω–Μ–Ψ―â–Α–¥―¨ –Α–≤―²–Ψ–±―É―¹ ―¹―É―²―É–Μ―΄–Ι,
–Δ―É–¥–Α, –≥–¥–Β –≤ –Ω–Μ–Β–Ϋ―É –¥–Β–Κ–Ψ―Ä–Α―Ü–Η–Ι –Ζ–Α–Φ―ë―Ä–Ζ ―Ä–Α–Ι―¹–Ψ–≤–Β―².
–½–Α–Ω–Μ–Α–Κ–Α–Μ ―Ä–Β–±―ë–Ϋ–Ψ–Κ, ―¹–Κ–≤–Ψ―Ä–Β―Ü –Ω―Ä–Ψ–Μ–Β―²–Α―Ä―¹–Κ–Η―Ö –Κ–≤–Α―Ä―²–Α–Μ–Ψ–≤,
–ü―Ä–Η–Μ–Η–Ω―΅–Η–≤―΄–Ι –≤–Β―²–Β―Ä –≤–Α―è–Β―² –Ψ―²―΅–Α―è–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Ω–Μ–Α―΅,
–ù–Α–¥ ―è–Φ–Ψ–Ι –Ψ―Ä–Κ–Β―¹―²―Ä–Α –Η –±–Β–Ζ–¥–Ϋ―΄ –Φ–Α―è―΅–Η―² ―É―¹―²–Α–Μ–Ψ,
–Γ―É–Ε–Α–Β―² –Ζ―Ä–Α―΅–Κ–Η –±–Β–Ζ―Ä–Α–Ζ–Μ–Η―΅–Ϋ―΄–Ι ―³–Α―Ä―³–Ψ―Ä–Ψ–≤―΄–Ι –Φ―è―΅.
–ü–Α―Ä –Ω―Ä–Α―΅–Β―΅–Ϋ–Ψ–Ι βÄ™ –Ϋ–Η–Φ–±. –Θ–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Ι –Φ–Α–Μ–Ψ–Κ―Ä–Ψ–≤–Ϋ―΄–Β –¥―É―à–Η,
–Δ–Α–Η–Ϋ―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Γ–Μ–Α–≤–Α ―¹ ―³–Α–Φ–Η–Μ–Η–Β–Ι –ö–Α–Ω―ç―ç―¹―ç―¹.
–£ –Μ–Η–Φ–Ψ–Ϋ–Ψ–≤–Ψ–Φ –Η–Ϋ–Β–Β –¥―Ä―è–±–Μ―΄ ―³–Ψ–Ϋ–Α―Ä–Ϋ―΄–Β –≥―Ä―É―à–Η,
–ß–Β–Ι ―¹–≤–Β―² –Α–±–Α–Ε―É―Ä–Ϋ―΄–Ι ―²―Ä―è―¹―ë―² –Ϋ–Α–¥ –Α–≤―²–Ψ–±―É―¹–Ψ–Φ –±–Β―¹.
–£ –Ζ–Α–Ω―ë–Κ―à–Β–Φ―¹―è –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η βÄ™ –Μ–Ψ–Ζ―É–Ϋ–≥–Η –≤―¹–Β―Ö –Ω―è―²–Η–Μ–Β―²–Ψ–Κ
–ù–Β–Ω―Ä–Ψ–Ε–Η―²–Ψ–Ι –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η –≤ ―É–Ϋ―΄–Μ–Ψ–Φ ―¹―²―É–¥―ë–Ϋ–Ψ–Φ –Α–¥―É,
–î–Β―²―¹–Α–¥–Ψ–≤―¹–Κ–Η–Ι ―Ä―ë–≤ –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Α–Β–Φ―΄–Ι ―Ä–Β–Ζ–Ψ–Κ –Η –Β–¥–Ψ–Κ,
–‰ ―¹–Ψ–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Α–≤―²–Ψ–±―É―¹ –Ω–Μ–Β―²―ë―²―¹―è ―É –≤―¹–Β―Ö –Ϋ–Α –≤–Η–¥―ÉβÄΠ
***
–Γ―²―Ä–Α―¹―²―¨ ―É–Μ–Η―Ü―΄ –≤―΄–Κ–Η–¥―΄–≤–Α―²―¨ –Κ–Ψ–Μ–Β–Ϋ―Ü–Α,
–ü–Β―²–Μ―è―²―¨ –Η ―É–Ζ–Η―²―¨―¹―è –≤ ―²–≤–Β―Ä–¥–Β―é―â―É―é –Φ–≥–Μ―É,
–™–¥–Β –≥–Μ―É―Ö –Ω―Ä–Β–¥―¹–Φ–Β―Ä―²–Ϋ―΄–Ι –≤–Ζ–¥–Ψ―Ö, –Α –Κ―Ä–Η–Κ –Φ–Μ–Α–¥–Β–Ϋ―Ü–Α
–£–Ψ–Ϋ–Ζ–Α–Β―² –≤ ―¹–Β―Ä–¥―Ü–Β –Ψ―¹―²―Ä―É―é –Η–≥–Μ―É,
–™–¥–Β –≥–Η―²–Α―Ä–Η―¹―² –≤―΄―΅–Β―¹―΄–≤–Α–Β―² –Ζ–≤―É–Κ–Η,
–Γ–Κ―Ä–Β–±–Β―² –¥–Ψ –Κ―Ä–Ψ–≤–Η, ―Ä–Ε–Α–≤―΅–Η–Ϋ–Ψ–Ι –Ω―΄–Μ–Η―²,
–‰ ―Ö–Ψ―΅–Β―²―¹―è –¥―΄―Ö–Α–Ϋ–Η–Β –Η ―Ä―É–Κ–Η
–Γ–Μ–Ψ–Φ–Α―²―¨ –Ψ –Ϋ–Ψ―΅–Η ―΅–Β―Ä–Ϋ―΄–Ι –Φ–Ψ–Ϋ–Ψ–Μ–Η―²βÄΠ
***
–‰–Ζ ―è―Ä–Φ–Α―Ä–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Ι –Κ–Ψ–Μ–Ψ–Ϋ–Κ–Η ―²–Β―΅–Β―² Nirvana,
―²―Ä―è–Ω–Η―΅–Ϋ–Α―è –±–Α―Ä―΄–Ϋ―è ―¹―²–Β―Ä–Β–Ε–Β―² ―¹–Α–Φ–Ψ–≤–Α―Ä,
–Κ―Ä–Α―à–Β–Ϋ―΄–Β ―è–Ι―Ü–Α, –Ζ–Α–Ι―Ü―΄ –Η–Ζ –Φ–Α―Ä―Ü–Η–Ω–Α–Ϋ–Α,
―²–Ψ―Ä–≥–Ψ–≤―Ü―΄ –Φ―΄–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ–Η –Ω―É–Ζ―΄―Ä―è–Φ–Η
―Ä–Α―¹―Ö–≤–Α–Μ–Η–≤–Α―é―² ―²–Ψ–≤–Α―Ä.
–Δ―Ä–Β―Ö–Φ–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Β, –Ϋ–Β–≤–Β―¹–Ψ–Φ–Ψ–Β –Ψ―² –≥―É–± –Ψ―²–≥–Ψ–Ϋ―è―è,
–Κ―É―²–Α―é―²―¹―è, –Ω–Ψ–Μ―΄–Β, –≤ –Ζ–Α–Φ―É―Ä–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Α―Ä–Φ―è–Κ–Η.
–ü―Ä–Ψ–Ζ―Ä–Α―΅–Ϋ–Α―è ―Ä–Α–¥―É–≥–Α –Ε–¥–Β―² –Ϋ–Α–≥–Ψ–Ϋ―è―è,
–Ζ–Α–≤–Η―¹–Α–Β―² –≤ –≤–Ψ–Ζ–¥―É―Ö–Β
–≤–Β–Μ–Β–Ϋ–Η―é –≤–Ψ–Ω―Ä–Β–Κ–Η.
–Θ–Μ–Β―²–Α–Ι, –±―Ä–Ψ–¥―è–Ε–Κ–Α, –Ω―Ä―É–Ε–Η–Ϋ―è –Ζ―Ä–Β–Ϋ–Η–Β,
―Ä–Α–Ζ–Φ–Α―²―΄–≤–Α–Ι –Μ–Η–Ϋ―¨, –Η―¹―²–Ψ–Ϋ―΅–Α―è –Ϋ–Η―²―¨,
―¹–≤―è―â–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η–Β –Ω―Ä–Α―Ö–Α,
–±–Β–Ζ―΄―¹―Ö–Ψ–¥–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Ψ–Ω–Β―Ä–Β–Ϋ–Η–Β,
–≤―¹―è–Κ –Ζ–Α―Ö–Ψ―΅–Β―² ―²–Β–±―è
―É–Κ–Ψ–Μ–Ψ―²―¨, –Ω―Ä–Ψ–Ϋ–Ζ–Η―²―¨.
–€–Ψ–Ε–Β―², ―ç―²–Ψ ―è ―¹–Α–Φ ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Ε―É, ―²–Β–Κ―É―΅–Η–Ι,
–Ψ–¥–Η–Ϋ–Ψ–Κ–Η–Ι –≤―΄–¥–Ψ―Ö –Ϋ–Α ―¹―΅–Β―² –¥–≤–Α-―²―Ä–Η,
–Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Η–≤―à–Η–Ι―¹―è –≤ ―Ä―É–±–Α―à–Κ–Β
–Ω―à–Η–Κ –Κ–Ψ–Μ―é―΅–Η–Ι,
–Ζ–Ϋ–Α―²―¨ –±―΄, ―΅―²–Ψ –Ε–Β –≤―΄―Ä–≤–Β―²―¹―è
–Η–Ζ–Ϋ―É―²―Ä–Η.
***
–£ ―²–Β–Μ–Α―Ö –Ψ–±–Μ–Α–Κ–Ψ–≤ –Η–Ζ –Ω―Ä–Ψ―Ä–Β―Ö –≥–Ψ–Μ–Ψ―¹–Α βÄ™
–Ϋ–Α―¹―²–Ψ–Ι –Φ–Ψ–Μ–Ψ–Κ–Α –Η –Κ―Ä–Ψ–≤–Ή,
–≥–Ϋ―É―¹–Α–≤–Α―è ―³–Μ–Β–Ι―²–Α –Ω―Ä–Ψ―²―è–Ε–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–Β―²
–Ψ –¥–Β―²―¹–Κ–Ψ–Ι –Κ–Α―Ä―²–Α–≤–Ψ–Ι –Μ―é–±–≤–Η.
–Γ–Ϋ–Β–≥ ―¹―΄–Ω–Β―²―¹―è –Κ―Ä―É–≥–Μ―΄–Ι –Η –Ω–Μ–Ψ―²–Ϋ―΄–Ι, –Κ–Α–Κ ―¹―²―Ä–Α―Ö,
–Ϋ–Α –Ω–Μ–Ψ―¹–Κ–Η―Ö –¥–Ψ–Φ–Ψ–≤ ―΅–Β―Ä–Ϋ–Ψ―²―É,
–Ψ–Ϋ ―²–Β–Φ–Ϋ―É―é –±–Μ–Η–Ζ–Ψ―¹―²―¨ –Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ–Ψ ―¹―É–Μ–Η―²
–Η –Μ–Β–Ω–Η―², –Κ–Α–Κ ―¹–Φ–Β―Ä―²―¨, –Ϋ–Α –Μ–Β―²―É.
–£–Ζ–±–Β–≥–Α―²―¨, ―¹–Ω–Ψ―²―΄–Κ–Α―è―¹―¨, –±―Ä–Ψ―¹–Α―è ―¹–Μ–Ψ–≤–Α
–±–Β―¹–Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ―΄–Φ –¥–Β―Ä–≥–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Φ ―Ä―²–Ψ–Φ,
–Κ―Ä–Η–Κ –±–Α–±–Ψ―΅–Κ–Η ―¹–Μ–Β–Ζ–Ϋ–Ψ –≤–Ζ―΄–≤–Α–Β―² –Κ –Μ―é–±–≤–Η,
–Ϋ–Ψ –Α–Ϋ–≥–Β–Μ ―É―à–Β–Μ –Ϋ–Α –Ψ–±–Β–¥.
–ö–Ψ–Φ―É ―ç―²–Α –Ω–Β―¹–Ϋ―è, ―¹–Κ–Α―΅–Κ–Η, –Α–Ϋ―²―Ä–Α―à–Α,
–‰ ―ç―²–Ψ―² –Ϋ–Β–≤―΄–Ζ―Ä–Β–≤―à–Η–Ι ―¹–≤–Β―²?
–‰ ―΅―²–Ψ ―²–Α–Φ –≤–≤–Β―Ä―Ö―É, –Ζ–Α –Ω–Ψ–¥–Κ–Μ–Α–¥–Κ–Ψ–Ι –Ϋ–Β–±–Β―¹,
–ù–Η–Κ–Α–Κ –Ϋ–Β ―Ä–Β―à–Η―²―¹―è ―É–Ω–Α―¹―²―¨?
–ù–û–£–Ϊ–ô –ë–ï–†–ï–™
–Λ–Α―¹–Φ–Β―Ä ―É–≤–Η–¥–Β–Μ "–±–Β―Ä–Β–≥" –≤ –¥―Ä–Β–≤–Ϋ–Β–Ϋ–Β–Φ–Β―Ü–Κ–Ψ–Φ "berg".
–Γ–Α–Φ ―Ä–Α―¹―¹―É–¥–Η: –≤–Β―Ä―à–Η–Ϋ―É –≤ –Ζ―΄–±–Κ–Ψ–Φ –Ψ―²–Κ―Ä―΄―²–Ψ–Φ –Φ–Ψ―Ä–Β
–ù–Β ―Ä–Α–Ζ–Μ–Η―΅–Α–Β―² –≥–Μ–Α–Ζ: ―¹―²–Α―Ä―΄–Ι ―Ö―Ä―É―¹―²–Α–Μ―¨ –Ω–Ψ–Φ–Β―Ä–Κ,
–‰ –Ψ―¹―è–Ζ–Α–Ϋ―¨–Β ―¹ ―΅―É–≤―¹―²–≤–Ψ–Φ –≤–Β―¹―²–Η–±―É–Μ―è―Ä–Ϋ―΄–Φ –≤ ―¹―¹–Ψ―Ä–Β.
–Δ–Ψ–Ω–Κ–Η ―΅–Β―Ä–Ϋ–Η–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –Ω―è―²–Ϋ–Α –Ϋ–Α ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ω–Μ–Η–≤–Ψ–Ι –≤–Ψ–¥–Β,
–≠―Ö–Ψ ―¹–±–Η–≤–Α–Β―² ―²–Α–Κ―²―΄ –¥–Η–Ζ–Β–Μ―è –≤ ―Ä–Ψ–±–Κ–Η–Β ―¹―²–Α–Ι–Κ–Η.
"–Γ–Β –Ψ–±–Β―â–Α–Ϋ–Η–Β ―¹―΅–Α―¹―²―¨―è". –™–¥–Β –Ψ–Ϋ–Ψ, ―¹―΅–Α―¹―²―¨–Β, –≥–¥–Β?
–£―΄–¥―É–Φ–Α–Ι –Ϋ–Ψ–≤―΄–Ι –±–Β―Ä–Β–≥, –≤―΄–¥–Ψ―Ö–Ϋ–Η –±–Β–Ζ ―É―²–Α–Ι–Κ–Η.
–€―΄ –Ω–Ψ–¥–Ψ―à–Μ–Η ―²–Α–Κ –±–Μ–Η–Ζ–Κ–Ψ, ―΅―²–Ψ ―Ä–Α–Ζ–Μ–Η―΅–Α–Β–Φ ―¹–Β–±―è,
–ö―Ä–Η–Κ–Η ―¹–Η–≥–Ϋ–Α–Μ―¨―â–Η–Κ–Ψ–≤ –≥―Ä–Ψ–Φ―΅–Β ―Ä–Β–≤–Α –Ϋ–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Ι –±–Ψ–Φ–±–Β–Ε–Κ–Η,
–ù–Β–±–Ψ –Κ–Η–Ω–Η―² –Η –Ω–Β–Ϋ–Η―²―¹―è, –Φ–Ψ―Ä–Β ―Ä―è–±–Η―², –¥―Ä–Ψ–±―è
–ù–Β―²–Β―Ä–Ω–Β–Μ–Η–≤–Ψ–Β ―¹–Β―Ä–¥―Ü–Β –Ϋ–Α –±–Β–Ζ―΄–Φ―è–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –¥–Ψ―Ä–Ψ–Ε–Κ–Β.
–ü―Ä–Ψ–Ε–Β–Κ―²–Ψ―Ä–Α, ―¹–Η―Ä–Β–Ϋ―΄... –Γ–Μ–Β–¥–Ψ–Φ βÄ™ –Ϋ–Η―΅―²–Ψ, –Ω―É―¹―²–Ψ―²–Α.
–Δ–Α–Φ –≤ ―²–Β–Φ–Ϋ–Ψ―²–Β ―Ä–Α–Ζ–Μ–Η―΅–Η–Φ―΄ –≤―è–Ζ–Κ–Η–Β –Φ–Β―Ä―²–≤―΄–Β –Ζ–≤―É–Κ–Η.
–™–¥–Β ―²―΄, –Ζ–Α–≤–Β―²–Ϋ―΄–Ι –±–Β―Ä–Β–≥? –‰–Ψ–Ϋ–Α –≤–Ψ ―΅―Ä–Β–≤–Β –Κ–Η―²–Α
–ü–Β―Ä–Β–Ε–Η–Φ–Α–Β―² –≥–Ψ―Ä–Μ–Ψ –Η –Ψ–Ω―É―¹–Κ–Α–Β―² ―Ä―É–Κ–Η...
***
–ù–Α–±―É―Ö–Α―é―â–Η–Ι ―¹–≤–Β―², ―³–Ψ–Ϋ–Α―Ä–Η –Ϋ–Α–Μ–Η–≤–Α―é―²―¹―è –Κ―Ä–Ψ–≤―¨―é,
–ö–Ψ–Ϋ―²―É―Ä –Ϋ–Ψ―΅–Η –Ϋ–Β―΅–Β―²–Ψ–Κ, ―Ä–Α–Ζ–Φ―΄―² –≤ –Ψ–¥–Η―΅–Α–≤―à–Η―Ö –¥–Ψ–Φ–Α―Ö,
–Θ–≥–Μ–Ψ–≤–Α―²―΄–Β –Φ―΄―¹–Μ–Η –≤ –Ψ–Κ–Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ―Ü–Α―Ä–Α–Ω–Α–Ϋ―΄ –±―Ä–Ψ–≤―¨―é,
–Θ–Ζ–Μ–Ψ–≤–Α―²―΄–Β ―Ä―É–Κ–Η –Ϋ–Α ―à–Β–Β, ―¹–Φ―è―²–Β–Ϋ–Η–Β, ―¹―²―Ä–Α―Ö.
–ü―Ä–Ψ―¹―΄–Ω–Α–Ι―¹―è, ―É ―Ä―΄–±–Κ–Η –Ω―Ä–Ψ―¹–Η –Ω–Ψ –Ω―Ä–Η–≤―΄―΅–Κ–Β –Κ–Ψ―Ä―΄―²–Ψ,
–ë–Β–Ζ―Ä–Α–Ζ–Μ–Η―΅―¨–Β–Φ ―É–Κ–Ψ–Μ–Β―² ―²―Ä–Β―¹–Κ–Ψ–≤―΄–Ι –Φ–Ψ―Ä–Ψ–Ε–Β–Ϋ―΄–Ι –≥–Μ–Α–Ζ,
–ü―²–Η―Ü–Α –≤ –Κ–Μ–Β―²–Κ–Β –Μ–Β―²–Η―² –Ζ–Ψ–Μ–Ψ―²–Ψ–Ι, –Ϋ–Ψ ―²–Ψ–±–Ψ–Ι –Ϋ–Β –Ω–Ψ–¥–±–Η―²–Α,
–½–Α―¹–Ψ―Ä–Η–Μ―¹―è ―¹―²–Ψ―è–Κ –Η –Ϋ–Α –≤–Ψ―¹–Β–Φ―¨ βÄ™ ―΅–Η–Ϋ–Η―²―¨ ―É–Ϋ–Η―²–Α–Ζ.
–™–Ψ–¥ –Ζ–Α –¥–≤–Α βÄ™ ―¹–Ψ–Μ–Η―²–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è –¥–≤–Ψ–Ι–Ϋ–Ψ–Β,
–™–¥–Β ―¹–Ψ ―¹–Κ–Ψ―Ä–Ψ―¹―²―¨―é ―¹–≤–Β―²–Α ―²–Β―΅–Β―² –Ϋ–Β–Ω―Ä–Ψ–≥–Μ―è–¥–Ϋ–Α―è ―²―¨–Φ–Α,
–™–¥–Β –Ψ―Ö―Ä–Η–Ω―à–Β–Β ―Ä–Α–¥–Η–Ψ ―Ö–≤–Α–Μ–Η―²―¹―è –Ϋ–Ψ–≤―΄–Φ ―É–¥–Ψ–Β–Φ,
–ù–Ψ ―É–Ω―Ä―è–Φ–Ψ ―΅–Β―Ä–Ϋ―è―² –Φ–Ψ–Μ–Ψ–Κ–Ψ ―¹―É–Μ–Β–Φ–Α –Η ―¹―É―Ä―¨–Φ–Α.
–½–Α –±–Β―²–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι ―¹―²–Β–Ϋ–Ψ–Ι ―²–Β―Ä–Ω–Β–Μ–Η–≤–Ψ –Φ–Ψ–Μ―΅–Η―² –Μ–Β–Ω―Ä–Ψ–Ζ–Ψ―Ä–Η–Ι,
–ü―Ä–Ψ–Κ–Α–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ζ–¥–Α–Ϋ–Η―è, –Μ―é–¥–Η, –Ϋ–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Β –Ζ–≤–Β―Ä―¨–Β,
–Λ–Ψ–Ϋ–Α―Ä–Η –Ϋ–Α–Μ–Η–≤–Α―é―²―¹―è –Κ―Ä–Ψ–≤―¨―é, –Ψ―²―΅–Α―è–Ϋ―¨–Β–Φ βÄ™ –Ζ–Ψ―Ä–Η,
–‰ ―¹―Ä―΄–≤–Α–Β―²―¹―è ―¹–Β―Ä–¥―Ü–Β ―¹ –Κ–Α―²―É―à–Β–Κ βÄ™ ―²–≤–Ψ–Β –Η –Φ–Ψ–Β.
***
–£–Ψ–Ε–¥–Η ―΅–Β–≥–Ψ-―²–Ψ –Η –Β―â–Β ―΅–Β–≥–Ψ-―²–Ψ,
–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Ι–Ϋ–Η–Κ–Η, –Ψ–±―É―²―΄–Β –≤ –±–Α―Ö–Η–Μ―΄,
―¹–Φ–Β―Ä―²―¨-–¥–Ψ–Κ―²–Ψ―Ä –Ϋ–Α ―²―Ä–Η–±―É–Ϋ–Β –Φ–Α–≤–Ζ–Ψ–Μ–Β―è,
–Ω–Ψ–≥–Α―¹―à–Η―Ö ¬Ϊ―è¬Μ ―²–Ψ―Ä–Ε–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―³–Μ―ç―à–Φ–Ψ–±.
–£ –Φ–Ψ―Ä–Ψ–Ζ–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–≤–Β–Ε–Β―¹―²–Η –Φ–Ψ–≥–Η–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–Κ–Ψ―è
―²―Ä–Β―Ö―Ü–≤–Β―²–Ϋ―΄–Ι –Ψ–±–Φ–Ψ―Ä–Ψ–Κ –Η –≤–Ψ–Ζ–¥―É―Ö –Φ–Β–¥–≤–Β–Ε–Α―²―΄–Ι,
―à–Β―¹―²–Η―É–≥–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β –Ϋ–Β–Η―¹―²–Ψ–≤―¹―²–≤–Ψ ―¹–Ϋ–Β–Ε–Η–Ϋ–Ψ–Κ
–‰ ―Ä–Α–≤–Ϋ–Ψ–¥―É―à–Ϋ–Ψ-–≥―Ä–Ψ–Ζ–Ϋ–Ψ–Β –ù–Η―΅―²–ΨβÄΠ
–£ –Ω―É―¹―²–Ψ–Φ, –Ϋ–Β―Ä–Α―¹―΅–Μ–Β–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ
–Ϋ–Α―à–Η ―΅―É–≤―¹―²–≤–Α
―²–Β―Ä―è―é―² –Φ–Β―Ä―É –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η –Η ―¹–Φ―΄―¹–Μ–Α,
–Η –Φ―΄ –Ϋ–Β―¹–Β–Φ –≤ ―¹–≤–Ψ–Β–Φ –Ϋ–Β–Η–Ζ–Φ–Β―Ä–Η–Φ–Ψ–Φ
–Κ–Α–±–Α–Μ–Η―¹―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι ―É–≥―Ä–Ψ–Ζ―΄ ―²–Ψ―Ä–Ε–Β―¹―²–≤–ΨβÄΠ
–û–±―Ä–Β―²―à–Η–Ι –Κ–Α―²–Α―Ä―¹–Η―¹ –Ω–Ψ–¥–Ψ–±–Β–Ϋ –¥–Β–Ζ–Β―Ä―²–Η―Ä―É
–Η–Ζ –Κ―Ä―É–≥–Α –Ζ–Α–Κ–Ψ–Μ–Ψ―΅–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–≤–Β―²–Α,
–Κ–Α–Κ ―΅–Β–Ι-―²–Ψ ―¹–Ψ–Ϋ, ―¹–±–Β–Ε–Α–≤―à–Η–Ι –Ζ–Α –Κ―É–Μ–Η―¹―΄,
–≤ ―Ä–Α–Ζ–Φ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Ι
―Ä–Α–Ζ–Φ―΄―²―΄–Ι
–Ϋ–Β–≥–Α―²–Η–≤βÄΠ
***
–Γ–Η–Ϋ―è―è –Ω―²–Η―Ü–Α –Φ–Ψ–Μ―΅–Η―² –Ϋ–Α –Ϋ–Α―¹–Β―¹―²–Β,
–Δ―Ä―É–±―΄ ―¹–Ψ–Φ–Κ–Ϋ―É–Μ–Η –¥―΄–Φ–Ϋ―΄–Β –Κ―Ä–Ψ–Ϋ―΄.
–€―΄ –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Η―¹―¨ –≤ –Ϋ–Β–Ω―Ä–Η–±―Ä–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ –Φ–Β―¹―²–Β
–Δ–Α–Κ –Ψ–¥–Η–Ϋ–Ψ–Κ–Η, –Ϋ–Α―¹ –Φ–Η–Μ–Μ–Η–Ψ–Ϋ―΄.
–®–Α―²–Κ–Η–Β ―²–Β–Ϋ–Η ―΅―¨–Η―Ö-―²–Ψ –Ω–Ψ–¥–Ψ–±–Η–Ι
–ü–Α–¥–Α―é―² –≤ –Ϋ–Ψ―΅―¨, –≤ –Ω―É―¹―²–Ψ―²–Β –¥–Ψ–≥–Ψ―Ä–Α―è,
–ö–Α–Ε–¥―΄–Ι –≤ ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –Ϋ–Β–¥–Ψ―Ö–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Ψ–Ι –™–Ψ–±–Η,
–ù–Α –Ω–Β―Ä–Β―¹―΄–Μ–Κ–Β –Α–¥–Α –Η ―Ä–Α―è.
–ü–ê–€–·–Δ–‰ –Γ–û–ü–†–û–£–Γ–ö–û–™–û
–û–±–Η–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –‰–Ψ–≤, ―à–Α―Ä–Φ–Α–Ϋ―â–Η–Κ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥―¹–Κ–Ψ–Ι,
–£–Α―è―²–Β–Μ―¨ –Κ―Ä―É–≥–Μ―΄―Ö ―¹–Μ–Ψ–≤, –Ω–Ψ–¥ –Κ–Ψ―Ä–Κ–Ψ–Ι –Κ―É–Ω–Ψ―Ä–Ψ―¹–Α
–™–Ψ―Ä―¨–Κ–Η ―²–≤–Ψ–Η ―¹―²–Η―Ö–Η, –Η ―¹ ―Ö–Η–Ϋ–Ψ–Ι, –Η ―¹ ―²–Ψ―¹–Κ–Ψ–Ι,
–‰ –Ε–Α–Μ–Η―² –Φ–Β–¥–Ϋ―΄–Ι –Ζ–Φ–Η–Ι –Ω―Ä–Ψ–Κ–Μ―è―²–Ψ–≥–Ψ –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹–Α:
–½–Α―΅–Β–Φ –Ω―Ä–Η―΅–Α―¹―²–Ϋ―΄ –Φ―΄ –Ω―Ä–Β–¥–Α―²–Β–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–Ι ―¹―É–¥―¨–±–Β,
–½–Α―¹–Ϋ–Β–Ε–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Β, –Ω–Ψ―Ö–Η―â–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Ϋ–Α–¥–Β–Ε–¥–Β,
–û―à–Η–±–Κ–Β ―Ä–Ψ–Κ–Ψ–≤–Ψ–Ι, –±–Β―¹―¹―Ä–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Ι –Ζ–Μ–Ψ–Ι "–≥―É–±–Β",
–™–¥–Β –Φ―΄ ―¹ ―²–Ψ–±–Ψ–Ι ―¹–Φ–Ψ–Μ–Η–Φ –Η –Ϋ―΄–Ϋ–Β, –Κ–Α–Κ –Η –Ω―Ä–Β–Ε–¥–Β?
–Γ–Φ–Β―Ä–Κ–Α–Β―²―¹―è. –Λ–Β–≤―Ä–Α–Μ―¨. –Γ―É–≥―Ä–Ψ–±―΄ –Ϋ–Α–Φ–Β–Μ–Ψ.
–Θ –¥–≤–Ψ―Ä–Ϋ–Η–Κ–Α –Ζ–Α–Ω–Ψ–Ι βÄ™ –Β–≥–Ψ –≤–Η–Ϋ–Η―²―¨ –Ϋ–Β ―¹―²–Α–Ϋ–Β–Φ:
–ß―²–Ψ –Ε –¥–Β–Μ–Α―²―¨-―²–Ψ –Β―â–Β, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –±–Β–Μ―΄–Φ-–±–Β–Μ–Ψ,
–¦–Η―à―¨ ―΅―²–Ψ-―²–Ψ ―²–Α–Φ –±–Μ–Β―¹―²–Η―² –≤ –Ζ–Α–Μ–Α–Ω–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ ―¹―²–Α–Κ–Α–Ϋ–Β?
–î–Α, –ö–Η―Ä–Κ–Β–≥–Ψ―Ä –Ϋ–Β –Ω―Ä–Α–≤: ―¹―²–Β―Ä–Η–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –Ω―É―²–Η
–Λ–Η–Μ–Ψ―¹–Ψ―³–Α–Φ –Η–Ϋ―΄–Φ, –±–Β–Ζ―Ä–Ψ–Ω–Ψ―²–Ϋ―΄–Φ –Η ―²–Η―Ö–Η–Φ,
–î–Μ―è –Ϋ–Α―¹ –¥―Ä―É–≥–Ψ–Ι ―Ä–Α―¹–Κ–Μ–Α–¥, –Η –Κ–Α–Κ ―²―É―² –Ϋ–Η –Κ―Ä―É―²–Η,
–ù–Α–Φ –≤ –Ω―Ä–Α–Ζ–¥–Ϋ–Η–Κ, –Κ–Α–Κ –Η –≤ –Α–¥, –Ω–Ψ–¥ –Ω―¨―è–Ϋ―΄–Ι –±–Μ–Β―¹–Κ ―à―É―²–Η―Ö–Η.
–û–Ϋ–Α –Β―â–Β –Κ―Ä―É–Ε–Η―², –±–Β―¹–Ψ–≤―¹–Κ–Η–Ι –Ε–Β–Μ―²―΄–Ι –≥–Μ–Α–Ζ,
–‰ –Φ–Β–¥–Η―Ü–Η–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι ―¹–Ω–Η―Ä―² ―Ä–Α―¹―Ö–Ψ–¥–Η―²―¹―è –Ω–Ψ –Κ―Ä―É–≥―É,
–•–Η–Ζ–Ϋ―¨ –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Α–Β―²―¹―è, –Ϋ–Β–Η―¹―²–Ψ―â–Η–Φ –Ζ–Α–Ω–Α―¹
–½–Α–≤–Β―²–Ϋ―΄―Ö ―΅–Η―¹―²―΄―Ö ―¹–Μ–Ψ–≤, –Ϋ–Β ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –¥―Ä―É–≥ –¥―Ä―É–≥―É.
***
–Γ–Φ–Ψ―²―Ä–Η: –Ω―Ä–Ψ―¹―²―É–Ω–Α―é―² –¥–Α–≤–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–Ζ–Α–±―΄―²―΄–Β –Μ–Η―Ü–Α,
–‰ –Ω―Ä–Ψ―à–Μ–Ψ–Β –≤–Ϋ–Ψ–≤―¨ –Ω―Ä–Ψ―¹–Η―è–Μ–Ψ –≤ ―²–≤–Ψ–Β–Φ –Ϋ–Α―¹―²–Ψ―è―â–Β–Φ,
–‰ –≤–Ζ–¥―Ä–Ψ–≥–Ϋ―É–Μ–Ψ ―¹–Β―Ä–¥―Ü–Β, –Η –Ζ–≤–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ –Ζ–Α―à–Μ–Ψ―¹―¨, –Κ–Ψ–Μ–Ψ–Κ–Ψ–Μ―è―¹―¨,
–ù–Α–¥–Β–Ε–¥–Ψ–Ι –Ϋ–Β―è―¹–Ϋ–Ψ–Ι –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ –Ψ–Ω―è―²―¨ –Ψ–±–Φ–Α–Ϋ―É–Μ–Ψ―¹―¨.
–Γ―É―¹―²–Α–≤–Α–Φ–Η –Ω–Α–Μ―¨―Ü–Β–≤ –≥–Μ–Α–Ζ–Α –Ω―Ä–Ψ―²–Η―Ä–Α–Β―à―¨, –Κ–Α–Κ –Ω―Ä–Β–Ε–¥–Β,
–‰ –Ε–¥–Β―à―¨, –Ϋ–Β –¥–Ψ–Ε–¥–Β―à―¨―¹―è, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ε–Η–≤–Ψ―²–≤–Ψ―Ä–Ϋ–Ψ–Β ―¹–Ψ–Μ–Ϋ―Ü–Β
–£–Β―Ä–Ϋ–Β―² βÄ™ –Ψ, –¥―Ä–Α–Ζ–Ϋ―è―â–Β–Β! βÄ™ ―²–Β―Ö, –Κ–Ψ–≥–Ψ ―¹―²―Ä–Α―¹―²–Ϋ–Ψ –Μ―é–±–Η–Μ–Η,
–ù–Ψ –Ϋ–Β ―É–¥–Β―Ä–Ε–Α–Μ–Η –Η –Ϋ–Β–±―É, –Η –≤–Β―²―Ä―É –Ψ―²–¥–Α–Μ–Η.
–ë–Ψ―é―¹―¨, –≤ ―ç―²–Ψ–Ι ―²―¨–Φ–Β, ―ç―²–Ψ–Φ ―¹–≤–Β―²–Β, –Ω―΄–Μ–Α―é―â–Β–Φ ―΅–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Φ,
–€―΄ –Ϋ–Β –Ψ–Ω–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Β–Φ ―Ä–Ψ–¥–Ϋ―΄–Β ―΅―É–Ε–Η–Β –¥―Ä―É–≥ –¥―Ä―É–≥–Α
–Δ―΄ –Φ–Η–Φ–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Ι–¥–Β―à―¨, ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―à–Β–Ω–Ψ―²–Ψ–Φ ―à–Ψ―Ä–Ψ―Ö–Ψ–Φ ―¹–Κ–Ψ―Ä–±–Ϋ―΄–Φ
–Δ–≤–Ψ–Ι ―à–Α–≥ –Ψ–±–Ψ–Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―² ―¹–Φ―É―â–Β–Ϋ–Η–Β–Φ ―¹–Ψ―²–Κ–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –≤–Ψ–Ζ–¥―É―Ö.
–· –Ω–Μ–Α―΅―É, ―è ―¹―²―Ä–Α–Ε–¥―É, –¥―É―à–Α –Η―¹―²–Ψ–Φ–Η–Μ–Α―¹―¨ –≤ ―Ä–Α–Ζ–Μ―É–Κ–Β!
***
―¹–Κ–Ψ―Ä―΄–Ι –Ω–Α―¹―¹–Α–Ε–Η―Ä―¹–Κ–Η–Ι –Β–Ε–Β–¥–Ϋ–Β–≤–Ϋ―΄–Ι
–Ψ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ–Α –Ω―è―²―¨ –Φ–Η–Ϋ―É―² –±―É―³–Β―²
–Ϋ–Α –Κ―É–Μ–Α–Κ –Ϋ–Α–Φ–Ψ―²–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ϋ–Β―Ä–≤―΄
–Ϋ–Α―¹–Ω–Β―Ö –Ϋ–Α–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Φ–Α―Ä–Α―³–Β―²
–Φ–Α―à–Η–Ϋ–Η―¹―² ―É–Ε–Α–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Ϋ–Β―¹―ë―²―¹―è
―Ä–≤―É―² –Ω―Ä–Ψ―¹―²―Ä–Α–Ϋ―¹―²–≤–Ψ –Ε–Β–Μ―²―΄–Β –≥–Μ–Α–Ζ–Α
―Ä–Β–Μ―¨―¹–Α –Ψ―²―É―²―é–Ε–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è –≥–Ϋ–Β―²―¹―è
–Φ–Α―²–Β―Ä–Ϋ–Ψ ―¹–Κ―Ä–Β–Ε–Β―â―É―² ―²–Ψ―Ä–Φ–Ψ–Ζ–Α
–¥–Ψ ―¹–≤–Η–¥–Α–Ϋ―¨―è –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Α –Η ―¹―²―Ä–Α–Ϋ―΄
―Ä–Ψ–¥–Η–Ϋ–Α –Ϋ–Η –Ω―É―Ö–Α –Ϋ–Η –Ω–Β―Ä–Α
–Φ―΄ –≤―¹―ë –Β–¥–Β–Φ –Β–¥–Β–Φ –Ζ–Α ―²―É–Φ–Α–Ϋ–Ψ–Φ
―΅–Α–≤–Κ–Α–Β―² –Η ―΅–Α–≤–Κ–Α–Β―² –¥―΄―Ä–Α
–ü–ê–€–·–Δ–‰ –‰–¦–§–‰ –ö–û–†–€–‰–¦–§–Π–ï–£–ê
βÄ€βÄΠ–Φ–Ϋ–Β ―¹–Ϋ–Η–Μ–Ψ―¹―¨ ―è –Ψ–¥–Η–Ϋ –Η–Ζ ―²–Β―Ö
―¹ –Κ–Β–Φ –Ω–Η–Μ –≤ –Ω–Ψ–¥―ä–Β–Ζ–¥–Β –û–ΫβÄù
–Ϋ–Β–±–Ψ –≤ ―²―Ä―É–Ω–Ϋ―΄―Ö –Ω―è―²–Ϋ–Α―Ö –Η –Ω–Β–≥–Α―¹–Α―Ö
–≤–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Α―è ―¹―²–Α–Μ―¨ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ –Κ―Ä―΄–Μ–Ψ
–Ζ–¥–Β―¹―¨ –≤ ―Ä―É–Η–Ϋ–Α―Ö –≥–Β―Ä–Ϋ–Η–Κ–Η –Ω–Η–Κ–Α―¹―¹–Ψ
―¹―΄―²–Ψ–Ι –Μ–Ψ–Ε―¨―é ―¹–Ψ–Μ–Ϋ―Ü–Β ―Ä–Α―¹―¹–≤–Β–Μ–Ψ
–Ϋ–Α–Φ –Ϋ–Α –≤―¹–Β―Ö –Ϋ–Β ―Ö–≤–Α―²–Η―² –Κ–Η―¹–Μ–Ψ―Ä–Ψ–¥–Α
–≤―¹―²–Α–Ϋ―¨ –Μ–Η―Ü–Ψ–Φ –Κ –Ψ–±–Ψ―¹―¹–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι ―¹―²–Β–Ϋ–Β
–Ζ–Α–¥–Β―Ä–Ε–Η –¥―΄―Ö–Α–Ϋ–Η–Β –Κ–Α–Κ –≤ ―Ä–Ψ–¥–Α―Ö
–Ω―Ä–Ψ–Ω–Α–¥–Α–Ι –±–Β–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α –≤–Ψ–Ι–Ϋ–Β
–Α―Ö―²―É–Ϋ–≥ –Α―Ö―²―É–Ϋ–≥ –Ψ–±―â–Α―è –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Ϋ–Ψ―¹―²―¨
–Μ–Β–Ω–Ψ―²–Α –Η –Μ–Β–Ω―Ä–Α –≤ –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤–Β
–Ω–Ψ–¥–Β–Μ–Ψ–Φ ―É–Φ―Ä–Η –Ζ–Α ―²–Β–Ω–Μ–Ψ–Κ―Ä–Ψ–≤–Ϋ–Ψ―¹―²―¨
–Ω–Ψ―Ö–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Κ–Α –¥–Β―²―è–Φ –Η –≤–¥–Ψ–≤–Β
–Κ―Ä―΄–Μ―¨―è ―¹―Ä–Β–Ε―É―² –Η–Ζ–≤–Β―¹―²―¨ –Κ ―¹–≤–Β–Ε–Η–Φ ―Ä–Α–Ϋ–Α–Φ
–Ζ―Ä–Β–Ι –Α–Ϋ―à–Μ–Α–≥–Ψ–Φ –Ω―¨―è–Ϋ―΄–Ι –Κ―É―Ä―à–Β–≤–Β–Μ―¨
–≥–Μ–Α―É–Κ–Ψ–Φ–Α –≥–Ψ–Μ―É–±―΄–Φ ―ç–Κ―Ä–Α–Ϋ–Α–Φ
–Α –±–Α―Ä–Α–Ϋ–Α–Φ βÄ™ –Κ–Α―à–Κ–Α –Η ―â–Α–≤–Β–Μ―¨
–Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ―²–Ϋ–Η –Ϋ–Ψ―² –Η –¥–Β―²―¹–Κ–Η―Ö –Ω–Β―¹–Β–Ϋ
―¹―²–Α–Μ―¨ ―Ü–Β–Ω–Ψ―΅–Κ–Η ―Ä―¨―è–Ϋ–Α―è ―à–Ω–Α–Ϋ–Α
–≤―¹–Β –Φ–Ϋ–Β ―¹–Ϋ–Η―²―¹―è ―΅―²–Ψ –Ξ―Ä–Η―¹―²–Ψ―¹ –≤–Ψ―¹–Κ―Ä–Β―¹–Β
–Κ–Α–Κ –Φ–Ψ―è –±–Β–¥–Ψ–≤–Α―è ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Α