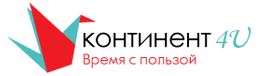–¦–‰–Δ–ï–†–ê–Δ–Θ–†–ù–ê–· –Γ–Δ–†–ê–ù–‰–Π–ê

–û―² ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Η―²–Β–Μ―è:
–†–Ψ―¹―² –‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤ βÄî –Ω–Ψ―ç―², –Ω―Ä–Ψ–Ζ–Α–Η–Κ, –Ε–Η–≤–Β―² –Η ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Β―² –≤ –î–Ψ–Ϋ–Β―Ü–Κ–Β. –û–Ϋ –±―΄–≤―à–Η–Ι –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Μ–Β―²―΅–Η–Κ (–≥–Ψ–¥ –Ϋ–Α–Ζ–Α–¥ –Φ―΄ –Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ–Η–Μ–Η ―΅–Η―²–Α―²–Β–Μ–Β–Ι ―¹ –Β–≥–Ψ ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ–Ψ–Φ –Η–Ζ ―Ü–Η–Κ–Μ–Α ¬Ϊ–½–Α–Ω–Η―¹–Κ–Η –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Μ–Β―²―΅–Η–Κ–Α¬Μ), ―¹–Μ―É–Ε–Η–Μ –≤ –ê―³–≥–Α–Ϋ–Η―¹―²–Α–Ϋ–Β.
–‰–≥–Ψ―Ä―¨ –€–Α―Ä–Α–Ϋ–Η–Ϋ –Ε–Η–≤–Β―² –≤ –ù–Ψ–≤–Ψ―¹–Η–±–Η―Ä―¹–Κ–Β, –Ω–Η―à–Β―² –Ω―Ä–Ψ–Ζ―É –Η ―¹―²–Η―Ö–Η, –Α–≤―²–Ψ―Ä –¥–≤―É―Ö –Κ–Ϋ–Η–≥ ―³–Α–Ϋ―²–Α―¹―²–Η–Κ–Η, –≥–Μ–Α–≤–Ϋ―΄–Ι ―Ä–Β–¥–Α–Κ―²–Ψ―Ä –Ε―É―Ä–Ϋ–Α–Μ–Α "–û–±–Μ–Ψ–Ε–Κ–Α".
–ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä –Γ―²―Ä–Β–Μ–Κ–Ψ–≤ –Η–Ζ –î–Ϋ–Β–Ω―Ä–Ψ–Ω–Β―²―Ä–Ψ–≤―¹–Κ–Α βÄî –Α–≤―²–Ψ―Ä –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α―é―â–Η–Ι, –Ϋ–Ψ ―É–Ε–Β –Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ –Ϋ–Α–Φ –Ω–Ψ –Φ–Α–Μ–Β–Ϋ―¨–Κ–Ψ–Φ―É ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ―É –Ψ –ß–Β―Ä–Ϋ–Ψ–±―΄–Μ–Β, –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Η–Ζ –Ω―Ä–Η–Φ–Β―΅–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –Ω―É–±–Μ–Η–Κ–Α―Ü–Η–Ι –Ϋ–Α―à–Β–Ι –≥–Α–Ζ–Β―²―΄ –Ψ―¹–Β–Ϋ―¨―é –Ω―Ä–Ψ―à–Μ–Ψ–≥–Ψ –≥–Ψ–¥–Α.
–Γ–Β–Φ–Β–Ϋ –ö–Α–Φ–Η–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι, newproza@gmail.com
–†–Ψ―¹―² –‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤
–Π–Ϊ–™–ê–ù–û–ß–ö–ê –Γ –£–Ϊ–Ξ–û–î–û–€
¬Ϊ–£ ―¹–Ψ–Ϋ –Φ–Ϋ–Β βÄ™ –Ε–Β–Μ―²―΄–Β –Ψ–≥–Ϋ–Η,
–‰ ―Ö―Ä–Η–Ω–Μ―é –≤–Ψ ―¹–Ϋ–Β ―è:
βÄ™ –ü–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η, –Ω–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η, βÄ™
–Θ―²―Ä–Ψ –Φ―É–¥―Ä–Β–Ϋ–Β–Β!
–ù–Ψ –Η ―É―²―Ä–Ψ–Φ –≤―¹–Β –Ϋ–Β ―²–Α–Κ,
–ù–Β―² ―²–Ψ–≥–Ψ –≤–Β―¹–Β–Μ―¨―è:
–‰–Μ–Η –Κ―É―Ä–Η―à―¨ –Ϋ–Α―²–Ψ―â–Α–Κ,
–‰–Μ–Η –Ω―¨–Β―à―¨ ―¹ –Ω–Ψ―Ö–Φ–Β–Μ―¨―è¬ΜβÄΠ
(¬Ϊ–€–Ψ―è ―Ü―΄–≥–Α–Ϋ―¹–Κ–Α―è¬Μ, –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä –£―΄―¹–Ψ―Ü–Κ–Η–Ι)
–ö–≤–Α―Ä―²–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –Ψ―²―΅―ë―²―΄ ―¹–¥–Α–Μ–Η –Κ –Ω–Ψ–Μ―É–¥–Ϋ―é. –†–Α–Ζ―΄–≥―Ä–Α–≤―à–Η–Β―¹―è –Ω–Ψ ―É―²―Ä―É ―¹―²―Ä–Α―¹―²–Η-–Φ–Ψ―Ä–¥–Α―¹―²–Η –Φ–Α–Μ–Ψ-–Ω–Ψ–Φ–Α–Μ―É ―É―²–Η―Ö–Μ–Η. –†―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥―¹―²–≤–Ψ –≤―΄–Ω―É―¹―²–Η–Μ–Ψ –Ϋ–Α–Κ–Ψ–Ω–Η–≤―à–Η–Ι―¹―è –Ζ–Α –Ϋ–Β–¥–Β–Μ―é –Ω–Α―Ä, ―¹–Ψ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Η–Κ–Η ―¹ –Ψ–±–Μ–Β–≥―΅–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –≤–Ζ–¥–Ψ―Ö–Ϋ―É–Μ–Η –Η –Ζ–Α–Ϋ―è–Μ–Η―¹―¨ –Ω―Ä–Η–≤―΄―΅–Ϋ―΄–Φ–Η –¥–Μ―è –Ω―è―²–Ϋ–Η―Ü―΄ –¥–Β–Μ–Α–Φ–Η. –•–Β–Ϋ―â–Η–Ϋ―΄ –Ϋ–Α–≤–Ψ–¥–Η–Μ–Η –Κ―Ä–Α―¹–Ψ―²―É –Η, ―¹―²–Α―Ä–Α―è―¹―¨ –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Ω–Α–¥–Α―²―¨―¹―è –Ϋ–Α –≥–Μ–Α–Ζ–Α –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨―¹―²–≤―É, –Ω–Ψ–Ω–Α―Ä–Ϋ–Ψ –±–Β–≥–Α–Μ–Η –≤ –Ϋ–Β–¥–Α–≤–Ϋ–Ψ –Ψ―²–Κ―Ä―΄–≤―à–Η–Ι―¹―è –Ϋ–Β–Ω–Ψ–¥–Α–Μ–Β–Κ―É –Ψ―² –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι ―É–Ϋ–Η–≤–Β―Ä―¹–Α–Φ. –€―É–Ε―΅–Η–Ϋ―΄, –Ε–Η–≤–Ψ –Ψ―²–Κ–Μ–Η–Κ–Ϋ―É–≤―à–Η―¹―¨ –Ϋ–Α –Κ–Β–Φ-―²–Ψ –Ϋ–Β–≤–Ζ–Ϋ–Α―΅–Α–Ι –±―Ä–Ψ―à–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β:
βÄî –ê –Ϋ–Β ―Ö–Μ–Ψ–Ω–Ϋ―É―²―¨ –Μ–Η –Ϋ–Α–Φ –Ω–Ψ ―Ä―é–Φ–Α―à–Κ–Β?! βÄî –Ϋ–Β―â–Α–¥–Ϋ–Ψ ―¹–Φ–Ψ–Μ–Η–Μ–Η, –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ–Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ω–Β―Ä–Β–Φ–Η–≥–Η–≤–Α–Μ–Η―¹―¨, –Α –Ζ–Α―²–Β–Φ, –Ϋ–Β–Ψ–Ε–Η–¥–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ –≤―¹–Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η–≤ –Ψ –Κ–Α–Κ–Η―Ö-―²–Ψ –Ϋ–Β―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹–Α―Ö, –Ϋ―΄―Ä―è–Μ–Η –≤ –Κ–Α–±–Η–Ϋ–Β―² –Κ ―¹–Ϋ–Α–±–Ε–Β–Ϋ―Ü–Α–Φ. –Γ–Ω―É―¹―²―è –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è, –Ϋ–Β–Ζ–Α–Φ–Β―²–Ϋ–Ψ –≤―΄–¥―΄―Ö–Α―è –≤ ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―É, –≤–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―â–Α–Μ–Η―¹―¨ –≤ –Κ―É―Ä–Η–Μ–Κ―É, –≤–Ϋ–Ψ–≤―¨ –¥–Ψ―¹―²–Α–≤–Α–Μ–Η ―¹–Η–≥–Α―Ä–Β―²―΄ –Η –≤–Ψ–Ζ–Ψ–±–Ϋ–Ψ–≤–Μ―è–Μ–Η –Ω―Ä–Β―Ä–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―è–Κ–Ψ–±―΄ ―Ä–Α–Ζ–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä –Ψ –Ω–Ψ―¹―²―É–Ω–Η–≤―à–Β–Ι –Ϋ–Α–Φ–Β–¥–Ϋ–Η –Ω–Α―Ä―²–Η–Η –±―Ä–Α–Κ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Κ–Α–Μ–Η–±―Ä–Ψ–≤–Κ–Η. –ü–Ψ ―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ―΅–Β―¹–Κ–Η–Φ –Κ–Ψ―Ä–Η–¥–Ψ―Ä–Α–Φ –±–Μ―É–Ε–¥–Α–Μ–Η ―¹–Κ–≤–Ψ–Ζ–Ϋ―è–Κ–Η, –Ω–Ψ–≤–Β―¹–Β–Μ–Β–≤―à–Η–Β –Κ–Μ–Β―Ä–Κ–Η –Η –Ϋ–Β–Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ–Ψ –Κ–Α–Κ–Η–Φ –≤–Β―²―Ä–Ψ–Φ –Ζ–Α–Ϋ–Β―¹–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –≤ ―¹–Ψ–Μ–Η–¥–Ϋ–Ψ–Β ―É―΅―Ä–Β–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Β –≤―¹–Β–¥–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Η ―Ä–Α–Ζ–≥–Η–Μ―¨–¥―è–Ι―¹―²–≤–Ψ. –ü―è―²–Η―ç―²–Α–Ε–Ϋ―΄–Ι –Φ―É―Ä–Α–≤–Β–Ι–Ϋ–Η–Κ –Ζ–Α–≤–Ψ–¥―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è –≤–Ψ–Ζ–±―É–Ε–¥―ë–Ϋ–Ϋ–Ψ –≥―É–¥–Β–Μ. –£―¹–Β, –Ϋ–Β–Ζ–Α–≤–Η―¹–Η–Φ–Ψ –Ψ―² –Ω–Ψ–Μ–Α –Η –≤–Ψ–Ζ―Ä–Α―¹―²–Α, –Ψ–±―¹―É–Ε–¥–Α–Μ–Η –Ε–Η―²–Β–Ι―¹–Κ–Η–Β –Ω―Ä–Ψ–±–Μ–Β–Φ―΄, –±–Η–Μ–Η –±–Α–Κ–Μ―É―à–Η –Η –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η–Μ–Η―¹―¨ –Κ –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Ψ―è―â–Η–Φ –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Ϋ―΄–Φ.
–Δ–Ψ–Μ―è –î–Β―Ä–Ε–Α–≤–Η–Ϋ, ―Ä―É–±–Α―Ö–Α-–Ω–Α―Ä–Β–Ϋ―¨ –Η –Ζ–Α–≤―¹–Β–≥–¥–Α―²–Α–Ι –≤―¹―è–Κ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Ψ–¥–Α ―¹–Ψ–Φ–Ϋ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –Φ–Β―Ä–Ψ–Ω―Ä–Η―è―²–Η–Ι, –Ψ―² –Ω―Ä–Β–¥–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η―è –Ω―Ä–Ψ–Ω―É―¹―²–Η―²―¨ –Ω–Ψ –Φ–Α–Μ–Β–Ϋ―¨–Κ–Ψ–Ι –Ϋ–Β–Ψ–Ε–Η–¥–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ψ―²–Κ–Α–Ζ–Α–Μ―¹―è, –Η, –Ω–Ψ–Ω―Ä–Α–≤–Μ―è―è –Ϋ–Α ―Ö–Ψ–¥―É –Μ–Β–≥–Κ―É―é –≤–Β―¹–Β–Ϋ–Ϋ―é―é –Κ―É―Ä―²–Κ―É, –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ―¹―è –Κ–Ψ―Ä–Ψ―²–Α―²―¨ –Ψ–±–Β–¥–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è –≤ ―¹–Κ–≤–Β―Ä–Η–Κ, ―Ä–Α―¹–Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Ω―Ä―è–Φ–Ψ –Ω–Ψ–¥ –Ψ–Κ–Ϋ–Α–Φ–Η –Κ–Ψ–Ϋ―²–Ψ―Ä―΄. –ü–Ψ―¹–Μ–Β –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Η –¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ε–Β―¹―²–Κ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Α–Ζ–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Α ―¹ ¬Ϊ–≥–Β–Ϋ–Β―Ä–Α–Μ–Ψ–Φ¬Μ, –Ψ–±–Β–¥–Α―²―¨ –Β–Φ―É ―Ä–Α―¹―Ö–Ψ―²–Β–Μ–Ψ―¹―¨, –Α –Ϋ–Α ―¹–Φ–Β–Ϋ―É –¥–Ψ–±―Ä–Ψ–Φ―É ―Ä–Α―¹–Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η―é –¥―É―Ö–Α –≤ –¥―É―à―É –Ζ–Α–Κ―Ä–Α–Μ–Η―¹―¨ ―²–Ψ―¹–Κ–Α –Η –Ϋ–Β–Ω–Β―Ä–Β–¥–Α–≤–Α–Β–Φ–Α―è ―¹–Μ–Ψ–≤–Α–Φ–Η –Ζ–Μ–Ψ–±–Α: –Ϋ–Α –Ϋ–Β –Ζ–Α–Μ–Α–¥–Η–≤―à―É―é―¹―è, –≤ –Ψ–±―â–Β–Φ-―²–Ψ, –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨, –Ϋ–Α ―à–Β―³–Α –Η –Ϋ–Β―É–Φ–Β–Ϋ–Η–Β –Ψ―²―¹―²–Α–Η–≤–Α―²―¨ ―¹–≤–Ψ–Η, –±–Ψ–Μ–Β–Β ―΅–Β–Φ ―¹–Κ―Ä–Ψ–Φ–Ϋ―΄–Β –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹―΄.
βÄî –ù–Α–¥–Ψ –Ε–Β, –Κ–Α–Κ –±―΄–≤–Α–Β―², βÄî ―É―¹–Β–≤―à–Η―¹―¨ –Ϋ–Α ―¹–Κ–Α–Φ–Β–Ι–Κ―É –Η –Ζ–Α–±―Ä–Ψ―¹–Η–≤ –Ϋ–Ψ–≥―É –Ϋ–Α –Ϋ–Ψ–≥―É, –¥―É–Φ–Α–Μ –Ψ–Ϋ. βÄî –†–Α–±–Ψ―²–Α–Β―à―¨, –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Κ–Μ–Α–¥–Α―è ―Ä―É–Κ, –Β–Ε–Β–¥–Ϋ–Β–≤–Ϋ–Ψ ―Ä–Β―à–Α―è –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Α–Β–Φ―΄–Β –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Ψ–¥―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹―΄: ―¹–Ψ–±–Α―΅–Η―à―¨―¹―è ―¹ –Ω–Ψ―¹―²–Α–≤―â–Η–Κ–Α–Φ–Η, –≤―΄–±–Η–≤–Α–Β―à―¨ –Ψ–±–Ψ―Ä―É–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β, ―¹–±–Η–≤–Α–Β―à―¨ ―Ü–Β–Ϋ―΄, –Α –Ψ―²–¥–Α―΅–Η –Ϋ–Ψ–Μ―¨ βÄî –±–Β–Ζ –Ω–Α–Μ–Ψ―΅–Κ–Η, –≤―¹―ë –Ϋ–Η–Κ–Α–Κ ―É–≥–Ψ–¥–Η―²―¨ –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Α–Β―²―¹―è. –€–Α–Μ–Ψ ―²–Ψ–≥–Ψ, –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–¥―É–Φ–Α―²―¨, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Α –Φ–Ϋ–Β ―¹–≤–Β―² –Κ–Μ–Η–Ϋ–Ψ–Φ ―¹–Ψ―à–Β–Μ―¹―è, –Β―â―ë –Η ―Ö–Ψ–Ζ―è–Ι―¹–Κ–Η–Β –¥–Β–Μ–Η―à–Κ–Η –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ―Ä–Α―΅–Η–≤–Α―²―¨ –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η―²―¹―è. –Δ―¨―³―É, –Ϋ–Β –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨ βÄî –Κ–Α―²–Ψ―Ä–≥–Α! –€–Ψ–Ε–Β―², –Ω–Μ―é–Ϋ―É―²―¨ –Ϋ–Α –≤―¹–Β βÄî –Η ―¹―²–Α―Ä–Η–Ϋ–Ψ–Ι ―²―Ä―è―Ö–Ϋ―É―²―¨? –™―É–Μ―¨–Ϋ―É―²―¨ –Ϋ–Α –Ω–Ψ–Μ–Ϋ―É―é –Κ–Α―²―É―à–Κ―É, –¥–Α ―²–Α–Κ, ―΅―²–Ψ–± –¥―É―à–Α ―Ä–Α–Ζ–≤–Β―Ä–Ϋ―É–Μ–Α―¹―¨? –ê ―΅―²–Ψ? –†―É–±―΅–Η–Κ–Η, –≤–Ψ―² –Ψ–Ϋ–Η, –≤ –Κ–Α―Ä–Φ–Α–Ϋ–Β, –Ζ–Α–Ϋ–Α―΅–Κ–Α –Β―â―ë ―¹ –Ω―Ä–Ψ―à–Μ–Ψ–Ι –Ζ–Α―Ä–Ω–Μ–Α―²―΄ –Ϋ–Β―²―Ä–Ψ–Ϋ―É―²–Ψ–Ι –Ψ―¹―²–Α–Μ–Α―¹―¨. –î–Α –Η –Ϋ–Α―¹―²―Ä–Ψ–Β–Ϋ–Η–Β –Ω–Ψ–¥―Ö–Ψ–¥―è―â–Β–Β βÄî –Ϋ–Β–Ω―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―Ä–Α–Ζ―Ä―è–¥–Κ–Η ―²―Ä–Β–±―É–Β―². –ê –Β–Ε–Β–Μ–Η –≤–¥―Ä―É–≥ –¥–Β–Ϋ―¨–Ε–Α―² –Ϋ–Β ―Ö–≤–Α―²–Η―² βÄî –Ϋ–Β –≤–Β–Μ–Η–Κ–Α –±–Β–¥–Α, –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –Η ―É –¥―Ä―É–Ζ–Β–Ι –Ω–Β―Ä–Β―Ö–≤–Α―²–Η―²―¨―¹―è. –•–Β–Ϋ–Α, –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, –¥–Ϋ―è –¥–≤–Α –≤ –Φ–Ψ–Μ―΅–Α–Ϋ–Κ―É –Η–≥―Ä–Α―²―¨ –±―É–¥–Β―², –Ϋ–Α ―¹–Ψ–≤–Β―¹―²―¨ –¥–Α–≤–Η―²―¨. –ù–Ψ –Η –≤ ―¹–Β–±–Β –≤―¹―è–Κ―É―é –≥–Α–¥–Ψ―¹―²―¨ –¥–Β―Ä–Ε–Α―²―¨ ―²–Ψ–Ε–Β –Ϋ–Β ―¹―²–Ψ–Η―². –ù–Β―Ä–≤―΄, –Ψ–Ϋ–Η –Ε –Ϋ–Β –Κ–Α–Ζ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β, –Ϋ–Β –Η–Ζ –Κ–Α–Ϋ–Α―²–Ψ–≤ –≤–Η―²―΄–Β. –£–Ψ–Ϋ –Ζ–Α–≤–Ψ–¥―¹–Κ–Η–Β –Κ―É―²–Η–Μ―΄, –Β―â–Β –¥–Ψ –¥–≤–Β–Ϋ–Α–¥―Ü–Α―²–Η ―Ä–Α―¹―¹–Μ–Α–±–Μ―è―²―¨―¹―è –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Η, –Η –Ϋ–Η―΅–Β–≥–Ψ βÄî ―Ö–Ψ―²―¨ –±―΄ ―Ö–Ϋ―΄. –ù–Β–Ω–Ψ–Ϋ―è―²–Ϋ–Ψ, –Ω–Ψ―΅–Β–Φ―É ―è –Ψ―²–Κ–Α–Ζ–Α–Μ―¹―è. –Γ―²–Α―Ä–Β―é, –Ϋ–Α–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Β, –Κ–≤–Α–Μ–Η―³–Η–Κ–Α―Ü–Η―é ―²–Β―Ä―è―é. –ê, –Φ–Ψ–Ε–Β―², –ù–Η–Ϋ–Κ―É, ―¹–≤–Ψ―é –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Ϋ―É―é –Ω–Ψ–Μ–Ψ–≤–Η–Ϋ―É –Η―¹–Ω―É–≥–Α–Μ―¹―è? –ù―É, ―É–Ε βÄî –Ϋ–Β―²! –€–Β–Ϋ―è –Ω―É–≥–Α―²―¨, –≤―¹–Β ―Ä–Α–≤–Ϋ–Ψ, ―΅―²–ΨβÄΠ –ê, –Μ–Α–¥–Ϋ–Ψ, –Ϋ–Β –±―É–¥–Β–Φ –Ψ–± ―ç―²–Ψ–Φ. –· βÄî –≤–Ψ―Ä–Ψ–±–Β–Ι ―¹―²―Ä–Β–Μ―è–Ϋ―΄–Ι, –Η –Ϋ–Β ―²–Α–Κ–Η―Ö –≤–Η–¥–Α–Μ! –î―Ä―É–≥–Ψ–Β –¥–Β–Μ–Ψ, ―΅―²–Ψ ―¹–≤―è–Ζ―΄–≤–Α―²―¨―¹―è –Ϋ–Β–Ψ―Ö–Ψ―²–Α. –Θ –Ϋ–Β–Β –Ε ―΅―²–Ψ –Ϋ–Η –≤–Β―΅–Β―Ä βÄî ―²–Ψ ―¹–Κ–Α–Ϋ–¥–Α–Μ, –Η–Μ–Η –Β―â–Β –Κ–Α–Κ–Α―è –Ψ–±–Η–¥–Α. –ß―²–Ψ ―²―Ä–Β–Ζ–≤―΄–Ι –Ω―Ä–Η–¥–Β―à―¨, ―΅―²–Ψ –Ω–Ψ–¥ –Φ―É―Ö–Ψ–Ι βÄî –±–Β–Ζ ―Ä–Α–Ζ–Ϋ–Η―Ü―΄. –Ξ–Ψ–¥–Η―², –¥―É–Β―²―¹―è, ―¹–Μ–Ψ–≤–Α –¥–Ψ–±―Ä–Ψ–≥–Ψ –Η–Ζ –Ϋ–Β–Β –Ϋ–Β –≤―΄―²―è–Ϋ–Β―à―¨. –ù–Β –Κ–Μ–Β–Η―²―¹―è ―΅―²–Ψ-―²–Ψ ―É –Ϋ–Α―¹ –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨ ―¹–Β–Φ–Β–Ι–Ϋ–Α―è, –Ϋ–Α ―΅–Α―¹―²–Η ―Ä–Α–Ζ–≤–Α–Μ–Η–≤–Α–Β―²―¹―è. –‰ ―΅–Β―Ä―² –Β–≥–Ψ –Ζ–Ϋ–Α–Β―², –Κ―²–Ψ –≤–Η–Ϋ–Ψ–≤–Α―², –Η –Κ–Ψ–≥–¥–Α ―¹―΅–Α―¹―²―¨–Β ―¹–≤–Ψ–Β –Ω―Ä–Ψ–Φ–Ψ―Ä–≥–Α–Μ–Η. –•–Η–≤–Β–Φ, –±―É–¥―²–Ψ –≤ –¥–Ψ–Μ–≥ –≤–Ζ―è–Μ–Η. –ê –±―΄–Μ–Ψ –± –≤―¹–Β –Ω–Ψ-–Μ―é–¥―¹–Κ–Η, ―¹―²–Α–Μ –±―΄ ―è –Ϋ–Α ―¹―²–Α―Ä–Ψ―¹―²–Η –Μ–Β―² –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤―É –Μ–Ψ–Φ–Α―²―¨, –Κ–Α–Κ –Ϋ–Α ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―É ―¹―Ö–Ψ–¥–Η―²―¨. –≠―Ö, –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨-–Ε–Β―¹―²―è–Ϋ–Κ–Α! –Ξ–Ψ―²―¨ –±―΄ ―É –¥–Ψ―΅–Β―Ä–Η –Ϋ–Α―à–Β–Ι –≤―¹–Β –Ω–Ψ-–¥–Ψ–±―Ä–Ψ–Φ―É –≤―΄―à–Μ–Ψ. –î–Α –Ω–Ψ–Κ–Α, ―¹–Φ–Ψ―²―Ä―é, –Μ–Α–¥–Η―²―¹―è ―É –Ϋ–Β―ë –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨, –Η ―²–Ψ βÄî ―¹–Μ–Α–≤–Α –ë–Ψ–≥―É. –Θ―΅–Η―²―¹―è ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ, –Η –Κ―Ä–Α―¹–Α–≤–Η―Ü–Α βÄî –Μ―é–±–Ψ-–¥–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β―²―¨! –ö–Ψ–Ω–Η―è βÄî –Φ–Α―²―¨ –≤ ―é–Ϋ–Ψ―¹―²–Η. –Δ–Α–Κ–Α―è –Ε–Β ―¹―²―Ä–Ψ–Ι–Ϋ–Α―è, ―΅–Β―Ä–Ϋ–Ψ–≤–Ψ–Μ–Ψ―¹–Α―è –Η ―¹–Φ―É–≥–Μ―è–≤–Α―è: –Ϋ–Η –¥–Α―²―¨ –Ϋ–Η –≤–Ζ―è―²―¨ βÄî ―Ü―΄–≥–Α–Ϋ–Κ–Α. –ü–Α―Ä–Ϋ–Η ―¹–Ψ―¹–Β–¥―¹–Κ–Η–Β –≤―¨―é–Ϋ–Ψ–Φ –≤―¨―é―²―¹―è, –≤ –≥–Μ–Α–Ζ–Κ–Η –Ζ–Α–≥–Μ―è–¥―΄–≤–Α―é―². –ù–Ψ –≤―΄–±―Ä–Α–Μ–Α, –Κ–Α–Ε–Η―¹―¨, –Μ―É―΅―à–Β–≥–Ψ, –Ϋ–Β –Η–Ζ –Φ–Β―¹―²–Ϋ–Ψ–Ι ―à–Ω–Α–Ϋ―΄. –ù–Β –Ω―Ä–Ψ―Ö–Η–Ϋ–¥–Β―è –¥–≤–Ψ―Ä–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ, –Α –Η–Ζ –Η–Ϋ―²–Β–Μ–Μ–Η–≥–Β–Ϋ―²–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–Β–Φ―¨–Η. –ü–Ψ –≤―¹–Β–Φ―É –≤–Η–¥–Ϋ–Ψ βÄî –Ϋ–Β–Ω–Μ–Ψ―Ö–Ψ–Ι –Ω–Α―Ä–Ϋ–Η―à–Κ–Α –Κ –Ϋ–Β–Ι –≤ –≥–Ψ―¹―²–Η –Ϋ–Α–≤–Β–¥―΄–≤–Α–Β―²―¹―è, –±–Α―à–Κ–Ψ–≤–Η―²―΄–Ι.
–Δ–Ψ–Μ―è –≥–Μ―É–±–Ψ–Κ–Ψ –≤–Ζ–¥–Ψ―Ö–Ϋ―É–Μ –Η, –Ψ―²–≥–Ψ–Ϋ―è―è –¥―É―Ä–Ϋ―΄–Β –Φ―΄―¹–Μ–Η, –Ϋ–Α―΅–Α–Μ –≤–Β―Ä―²–Β―²―¨ –Η–Ζ ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄ –≤ ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―É –Ψ―²―è–Ε–Β–Μ–Β–≤―à–Β–Ι –Ψ―² –Ζ–Α–±–Ψ―² –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤–Ψ–Ι.
βÄî –Ξ–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ ―¹–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è: ―¹–Ψ–Μ–Ϋ―΄―à–Κ–Ψ ―¹–≤–Β―²–Η―², –≤–Β―²–Β―Ä–Ψ–Κ ―¹–≤–Β–Ε–Η–Ι –≥―É–Μ―è–Β―² βÄî –Ε–Η–≤–Η, –Ϋ–Β ―Ö–Ψ―΅―É! –ê ―è ―΅―²–Ψ-―²–Ψ ―¹–Ψ–≤―¹–Β–Φ ―Ä–Α―¹–Κ–Μ–Β–Η–Μ―¹―è βÄî ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β―²―¨ –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Ψ. –ù―É, –Ϋ–Η―΅–Β–≥–Ψ, –Η –Ϋ–Α –Φ–Ψ–Β–Ι ―É–Μ–Η―Ü–Β –Ω―Ä–Α–Ζ–¥–Ϋ–Η–Κ –±―É–¥–Β―². –£―¹–Β ―É–Μ–Α–¥–Η―²―¹―è.
–î–Β―Ä–Ε–Α–≤–Η–Ϋ –Ω―Ä―É–Ε–Η–Ϋ–Η―¹―²–Ψ –≤―¹―²–Α–Μ –Η, ―Ä–Α–Ζ–Φ–Η–Ϋ–Α―è –Ζ–Α―²–Β–Κ―à–Η–Β –Ψ―² –¥–Ψ–Μ–≥–Ψ–≥–Ψ ―¹–Η–¥–Β–Ϋ–Η―è –Ϋ–Ψ–≥–Η, –Ζ–Α―¹–Ψ–±–Η―Ä–Α–Μ―¹―è –±―΄–Μ–Ψ –≤ –Κ–Ψ–Ϋ―²–Ψ―Ä―É. –ù–Ψ –Ϋ–Β ―É―¹–Ω–Β–Μ –Ψ–Ϋ –Ψ―²–Ψ–Ι―²–Η –Η –Ϋ–Α ―à–Α–≥ –Ψ―² ―¹–Κ–Α–Φ–Β–Ι–Κ–Η, –Α –Ϋ–Α –Β–≥–Ψ –Φ–Β―¹―²–Ψ ―É–Ε–Β ―²―è–Ε–Β–Μ–Ψ –Ω–Μ―é―Ö–Ϋ―É–Μ―¹―è –Ϋ–Β–¥―É―Ä–Ϋ–Ψ –Ψ–¥–Β―²―΄–Ι, –≤ ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Η–Η –Η–Ζ―Ä―è–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–¥–Ω–Η―²–Η―è –Ω–Ψ–Ε–Η–Μ–Ψ–Ι –Φ―É–Ε―΅–Η–Ϋ–Α. –ü―¨―è–Ϋ―΄–Ι ―É–¥–Ψ–≤–Μ–Β―²–≤–Ψ―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Κ―Ä―è–Κ–Ϋ―É–Μ, –Ω–Ψ―É–¥–Ψ–±–Ϋ–Β–Ι ―É―¹–Β–Μ―¹―è –Η, –±–Μ–Α–≥–Ψ–¥―É―à–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–Ω―΄―Ö–Η–≤–Α―è –Ω–Α–Ω–Η―Ä–Ψ―¹–Κ–Ψ–Ι, –Ϋ–Β–≥―Ä–Ψ–Φ–Κ–Ψ –Ζ–Α–Ω–Β–Μ:
–£ –Κ–Α–±–Α–Κ–Α―Ö βÄ™ –Ζ–Β–Μ–Β–Ϋ―΄–Ι ―à―²–Ψ―³,
–ë–Β–Μ―΄–Β ―¹–Α–Μ―³–Β―²–Κ–Η.
–†–Α–Ι –¥–Μ―è –Ϋ–Η―â–Η―Ö –Η ―à―É―²–Ψ–≤,
–€–Ϋ–Β –Ε –Κ–Α–Κ –Ω―²–Η―Ü–Β –≤ –Κ–Μ–Β―²–Κ–Β!..
–ü–Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–≤ ―¹ –Κ―É–Ω–Μ–Β―²–Ψ–Φ, –Φ―É–Ε―΅–Η–Ϋ–Α –Ε–Α–¥–Ϋ–Ψ –Ζ–Α―²―è–Ϋ―É–Μ―¹―è –Η –Η―¹–Ω–Ψ–¥–Μ–Ψ–±―¨―è –≥–Μ―è–Ϋ―É–Μ –Ϋ–Α ―¹―²–Ψ―è―â–Β–≥–Ψ ―Ä―è–¥–Ψ–Φ –Δ–Ψ–Μ―é:
βÄî –ß–Β–≥–Ψ ―É―¹―²–Α–≤–Η–Μ―¹―è? –ù–Β –≤–Η–¥–Η―à―¨ ―΅―²–Ψ –Μ–Η, ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ –Ψ―²–¥―΄―Ö–Α–Β―². –Δ―΄ –Ε–Β –Ϋ–Β –Φ–Β–Ϋ―² –Η –Ϋ–Β –Ϋ–Α ―¹–Μ―É–Ε–±–Β, –Ϋ–Α–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Β, –Α –≤―¹―²–Α–Μ –Ϋ–Α–¥ –¥―É―à–Ψ–Ι, –Α–Ε –≤ –≥–Ψ―Ä–Μ–Β –Ζ–Α–Ω–Β―Ä―à–Η–Μ–Ψ, βÄî –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ―Ä―΅–Α–Μ –Ϋ–Β–Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ–Β―Ü.
βÄî –î–Α –≤–Ψ―² –Ζ–Α―¹–Μ―É―à–Α–Μ―¹―è, ―É–Ε –±–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ω–Β―¹–Ϋ―è ―É ―²–Β–±―è ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Α―è. –‰ ―¹–Φ–Ψ―²―Ä―é, ―΅―²–Ψ ―¹–Α–Φ-―²–Ψ –¥–Ψ –¥–Ψ–Φ―É –≤―Ä―è–¥ –Μ–Η –¥–Ψ–Κ–Α–Ϋ–¥―΄–±–Α–Β―à―¨, ―²–Β–±–Β –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ε–Α―²―΄–Ι –Ϋ―É–Ε–Β–Ϋ.
βÄî –Δ―΄ –Ζ–Α –Φ–Β–Ϋ―è –Ϋ–Β –Ω–Β―Ä–Β–Ε–Η–≤–Α–Ι. –Θ –Φ–Β–Ϋ―è, –Ω–Α―Ä―è, ―¹―²–Α–Ε –±―É–¥―¨ –Ζ–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤ –Η –Ψ–Ω―΄―² –Ϋ–Β–Φ–Α–Μ―΄–Ι. –Δ–Α–Κ ―΅―²–Ψ, –±―΄–≤–Α–Ι, βÄî ―¹–Ω―Ä–Α–≤–Μ―é―¹―¨.
βÄî –ù―É, ―²–Β–±–Β –≤–Η–¥–Ϋ–Β–Ι: –Φ–Ψ–Β –¥–Β–Μ–Ψ βÄî –Ω―Ä–Β–¥–Μ–Ψ–Ε–Η―²―¨, ―²–≤–Ψ–Β βÄî –Ψ―²–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨―¹―è. –ë―É–¥―¨ –Ζ–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤, –¥―è–¥―è, –Ϋ–Β –Κ–Α―à–Μ―è–Ι!
βÄî –‰ ―²–Β–±–Β, –Ω–Μ–Β–Φ―è–Ϋ–Ϋ–Η―΅–Β–Κ, –Ϋ–Β ―Ö–≤–Ψ―Ä–Α―²―¨! –Γ―²―É–Ω–Α–Ι –¥–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ–Ι, –Κ―É–¥–Α ―à–Β–Μ βÄî ―¹–Κ–Α―²–Β―Ä―²―¨―é –¥–Ψ―Ä–Ψ–≥–Α!
–î–Α ―ç-―ç-―ç―Ö ―Ä–Α–Ζ, –¥–Α –Β―â–Β ―Ä–Α–ΖβÄΠ ―¹–Κ–Α―²–Β―Ä―²―¨―é –¥–Ψ―Ä–Ψ–≥–ΑβÄΠ βÄî –½–Α–Ψ―Ä–Α–Μ –≤ –≥–Ψ–Μ–Ψ―¹ –Ϋ–Β–¥―Ä―É–Ε–Β–Μ―é–±–Ϋ―΄–Ι –¥―è–¥―¨–Κ–Α.
–≠―Ö, –Φ–Α―²―¨ ―΅–Β―¹―²–Ϋ–Α―è, ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Ψ βÄî –≥―É–Μ―è―²―¨, ―²–Α–Κ –≥―É–Μ―è―²―¨! –ü–Β―¹–Ϋ―è βÄî –Η ―²–Α –≤ –Φ–Α―¹―²―¨ –Μ–Β–≥–Μ–Α. –Δ–Ψ–Μ―è –Φ–Β–Μ―¨–Κ–Ψ–Φ –≤–Ζ–≥–Μ―è–Ϋ―É–Μ –Ϋ–Α ―΅–Α―¹―΄, –Ω–Ψ–¥―¹―΅–Η―²―΄–≤–Α―è –≤ ―É–Φ–Β –Ψ―¹―²–Α–≤―à–Β–Β―¹―è –¥–Ψ –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Α–Ϋ–Η–Ι ―Ä–Α–±–Ψ―΅–Β–≥–Ψ –¥–Ϋ―è –≤―Ä–Β–Φ―è –Η ―¹―Ö–Ψ–¥―É –Ω―Ä–Ψ―Ä–Α–±–Α―²―΄–≤–Α―è –¥–Β―²–Α–Μ–Η ―¹–Ω–Ψ–Ϋ―²–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ ―¹–Ψ–Ζ―Ä–Β–≤―à–Β–≥–Ψ –Ω–Μ–Α–Ϋ–Α:
–‰―²–Α–Κ! –î–Α–±―΄ –Η–Ζ–±–Β–Ε–Α―²―¨ –Μ–Η―à–Ϋ–Η―Ö –Ϋ–Β–Ω―Ä–Η―è―²–Ϋ–Ψ―¹―²–Β–Ι, –Ϋ–Β –Φ–Β―à–Α–Μ–Ψ –±―΄ –¥–Ψ–Φ–Ψ–Ι –Ζ–≤―è–Κ–Ϋ―É―²―¨, –Ε–Β–Ϋ―É –Ω―Ä–Β–¥―É–Ω―Ä–Β–¥–Η―²―¨. –ß―²–Ψ –Ϋ–Η –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η, –Α –Ϋ–Η –Ψ–¥–Η–Ϋ –≥–Ψ–¥ –≤–Φ–Β―¹―²–Β –Ω―Ä–Ψ–Ε–Η–Μ–Η, –¥–Η―²―ë –Η ―Ö–Ψ–Ζ―è–Ι―¹―²–≤–Ψ –Ϋ–Α–Ε–Η–Μ–Η. –Γ–±―Ä–Β―Ö–Α―²―¨, ―΅―²–Ψ ―Ä–Β―à–Η–Μ ¬Ϊ–Ω―É–Μ―¨–Κ―É¬Μ ―¹ –¥―Ä―É–Ζ―¨―è–Φ–Η ―Ä–Α―¹–Ω–Η―¹–Α―²―¨. –ù―É –Η, ―Ä–Α–Ζ―É–Φ–Β–Β―²―¹―è, –Κ―É–¥–Α –Ε –±–Β–Ζ ―ç―²–Ψ–≥–Ψ, –Ω–Η–≤–Κ–Α –Ω―Ä–Η–≥―É–±–Η―²―¨. –ü―É―¹―²―¨ –Ϋ–Β –Ψ–±–Η–Ε–Α–Β―²―¹―è, –Ϋ–Β –Κ–Α–Ε–¥―΄–Ι –¥–Β–Ϋ―¨, –Φ―É–Ε–Β–Ϋ―ë–Κ –Κ–Α―Ä―²–Η―à–Κ–Α–Φ–Η –±–Α–Μ―É–Β―²―¹―è –Η –Ω–Β–Ϋ―É ―¹ –Ω–Η–≤–Α ―¹–¥―É–≤–Α–Β―². –î–Α –Η –Φ–Ϋ–Β ―²–Α–Κ ―¹–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Ι–Ϋ–Β–Β –±―É–¥–Β―². –ê ―΅―²–Ψ –Ω―Ä–Η–¥―É –Ω–Ψ–Ζ–¥–Ϋ–Ψ, –¥–Β–Μ–Ψ –¥–Β―¹―è―²–Ψ–Β. –Θ–≤–Μ–Β–Κ―¹―è, –Φ–Ψ–Μ, –≤―Ä–Β–Φ―è –Ϋ–Β ―Ä–Α―¹―¹―΅–Η―²–Α–Μ βÄî ―¹ –Κ–Β–Φ –Ϋ–Β –±―΄–≤–Α–Β―². –‰ –Ϋ–Β –Ζ–Α–±―΄―²―¨ –±―΄, ¬Ϊ–Ϋ―É–Φ–Β―Ä–Α¬Μ –Ζ–Α–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨ βÄî –¥–Β–≤―΅–Ψ–Ϋ–Ψ–Κ –≤―΄–Ζ–≤–Ψ–Ϋ–Η―²―¨. –ü–Ψ―¹–Μ–Β –Κ―Ä―É–Ε–Κ–Η –¥―Ä―É–≥–Ψ–Ι, –≤–Ψ–Ε–Ε–Α –Ω–Ψ–¥ ―Ö–≤–Ψ―¹―² –Ω–Ψ–Ω–Α–¥–Β―². –î–Β–Μ–Ψ –Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ–Ψ–Β. –ê –Φ―É–Ε–Η―΅–Κ–Η ―É –Ϋ–Α―¹ –≤ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Β ―É―à–Μ―΄–Β, –≥–Μ–Α–Ζ–Ψ–Φ –Φ–Ψ―Ä–≥–Ϋ―É―²―¨ –Ϋ–Β ―É―¹–Ω–Β–Β―à―¨, ―É ―Ä–Α–Ζ–±–Η―²–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ―Ä―΄―²–Α –Ψ―¹―²–Α–Ϋ–Β―à―¨―¹―è. –Ξ–Φ, –Ζ–Α―¹–Ψ–Φ–Ϋ–Β–≤–Α–Μ―¹―è –Δ–Ψ–Μ―è, –Α –Ω–Ψ―΅–Β–Φ―É –Ψ–±―è–Ζ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –≤ –≥–Ψ―¹―²–Η–Ϋ–Η―Ü―É, –Φ–Ψ–Ε–Β―², –Μ―É―΅―à–Β –≤ ―¹–Α―É–Ϋ―É –Ω–Ψ–¥–Α―²―¨―¹―è? –•–Β–Μ–Α–Ϋ–Η–Β –Κ―Ä–Α―¹–Η–≤–Ψ –≥―É–Μ―¨–Ϋ―É―²―¨ ―²–Α–Κ –Β–≥–Ψ –Ζ–Α―Ö–≤–Α―²–Η–Μ–Ψ, ―΅―²–Ψ –Ω―Ä–Ψ ―Ä–Α―¹―à–Α–Μ–Η–≤―à–Β–Β―¹―è –≤ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Β–Β –≤―Ä–Β–Φ―è ―¹–Β―Ä–¥―΅–Η―à–Κ–Ψ, –Ψ–Ϋ –Ω–Ψ–Ζ–Α–±―΄–Μ –Ϋ–Α–Ω―Ä–Ψ―΅―¨. –ê ―¹–Β―Ä–¥―Ü–Β –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ―à–Α–Μ–Η–≤–Α–Μ–Ψ. –ü–Ψ –Ϋ–Ψ―΅–Α–Φ –Ω―Ä–Η―Ö–≤–Α―²―΄–≤–Α–Μ–Ψ, –¥–Α ―²–Α–Κ, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Η –≤–Ζ–¥–Ψ―Ö–Ϋ―É―²―¨, –Ϋ–Η –Κ–Α―à–Μ―è–Ϋ―É―²―¨. –ë―É–¥―²–Ψ ―¹–Ε–Η–Φ–Α–Β―² –Β–≥–Ψ –Ϋ–Β–≤–Β–¥–Ψ–Φ–Α―è ―¹–Η–Μ–Α –Η –Ϋ–Β –Ψ―²–Ω―É―¹–Κ–Α–Β―² –Ω–Ψ–¥–Ψ–Μ–≥―É: –¥–Ψ ―Ü–≤–Β―²–Ϋ―΄―Ö ―΅–Β―Ä―²–Β–Ι –Ω–Β―Ä–Β–¥ –≥–Μ–Α–Ζ–Α–Φ–Η, –¥–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Α―Ä–Η–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Η―¹–Κ–Α –≤ ―É―à–Α―Ö. –Γ –Κ―É―Ä–Β–≤–Ψ–Φ –Ψ–Ϋ –Ζ–Α–≤―è–Ζ–Α–Μ –±―΄―¹―²―Ä–Ψ –Η –≤ –Ω–Η–≤–Ϋ―É―à–Κ–Η –¥–Ψ―Ä–Ψ–≥―É –Ω–Ψ–¥–Ζ–Α–±―΄–≤–Α―²―¨ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ, ―Ä–Α–Ζ–≤–Β ―΅―²–Ψ –Η–Ζ―Ä–Β–¥–Κ–Α ¬Ϊ–ö–Μ–Η–Ϋ―¹–Κ–Η–Φ¬Μ –Ω–Ψ–±–Α–Μ―É–Β―²―¹―è. –Γ–≤–Ψ―é ―Ü–Η―¹―²–Β―Ä–Ϋ―É –Ψ–Ϋ, –≤–Β―Ä–Ψ―è―²–Ϋ–Ψ, ―É–Ε–Β –≤―΄–Ω–Η–Μ. –ù–Ψ ―²–Ψ –Μ–Η –¥–Β–Ϋ―¨ ―²–Α–Κ–Ψ–Ι –Ζ–Α–¥–Α–Μ―¹―è, ―²–Ψ –Μ–Η –Ω–Ψ–Ω―É―¹―²–Η–Μ–Ψ –Ϋ–Β–Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ, –Α –Ω–Ψ―²―Ä–Β–±–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ ―Ä–Α―¹―¹–Μ–Α–±–Η―²―¨―¹―è –≤―¹–Β –Ε–Β –≤–Ζ―è–Μ–Α –≤–Β―Ä―Ö...
–î–Ψ–Ε–Η–¥–Α―è―¹―¨ –Ζ–Α–≤–Ψ–¥―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –≥―É–¥–Κ–Α, –Ψ–Ϋ –±–Β–Ζ ―É―¹―²–Α–Μ–Η –±–Β–≥–Α–Μ –Ω–Ψ ―²–Β―Ä―Ä–Η―²–Ψ―Ä–Η–Η, –Ψ–±―â–Α–Μ―¹―è ―¹ –Κ–Ψ–Μ–Μ–Β–≥–Α–Φ–Η, ―΅―²–Ψ-―²–Ψ –¥–Β–Μ–Α–Μ –Η –Ϋ–Β―²–Β―Ä–Ω–Β–Μ–Η–≤–Ψ –Ω–Ψ―¹–Φ–Α―²―Ä–Η–≤–Α–Μ –Ϋ–Α –Ω―Ä–Η–Κ–Μ–Β–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Κ ―Ü–Η―³–Β―Ä–±–Μ–Α―²―É ―¹―²―Ä–Β–Μ–Κ–Η ―΅–Α―¹–Ψ–≤. –ù–Ψ ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –±―΄ –Ϋ–Η ―²―è–Ϋ―É–Μ–Α―¹―¨ –Β–≥–Ψ –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Α–Β–Φ–Α―è ―¹–Φ–Β–Ϋ–Α, –Α –Ω―è―²–Ϋ–Η―Ü–Α –≤―¹–Β –Ε–Β –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Α –¥–Ψ–Μ–≥–Ψ –Ε–Η―²―¨. –Γ–Ψ–Μ–Ϋ―Ü–Β –Ζ–Α–Κ–Α―²–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –Ζ–Α –≥–Ψ―Ä–Η–Ζ–Ψ–Ϋ―², ―¹–Μ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ –Ω―è―²–Α–Κ –Ζ–Α –Ω–Ψ–¥–Κ–Μ–Α–¥–Κ―É βÄî –Ϋ–Η –¥–Ψ―¹―²–Α―²―¨, –Ϋ–Η –≤―΄―É–¥–Η―²―¨. –‰ –≤–Ψ―² ―É–Ε–Β –Ϋ–Α ―É–Μ–Η―Ü–Β –Ϋ–Ψ―΅―¨, ―²―¨–Φ–Α –Κ―Ä–Ψ–Φ–Β―à–Ϋ–Α―è βÄî ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ζ–≤–Β–Ζ–¥–Ψ―΅–Κ–Η –≤ –Ϋ–Β–±–Β –Φ–Β―Ä―Ü–Α―é―², –¥–Α –≤ –Ψ―²–Κ―Ä―΄―²―΄–Β –Ϋ–Α―¹―²–Β–Ε―¨ –Ψ–Κ–Ϋ–Α –Ζ–Α–Μ–Β―²–Α―é―² –Β–¥–≤–Α ―Ä–Α–Ζ–Μ–Η―΅–Η–Φ―΄–Β –Ζ–≤―É–Κ–Η –Φ–Α―à–Η–Ϋ, –Ω―Ä–Ψ–Β–Ζ–Ε–Α―é―â–Η―Ö –Φ–Η–Φ–Ψ –Ω―Ä–Η–≥–Μ―è–Ϋ―É–≤―à–Β–Ι―¹―è ―¹ –¥–Α–≤–Ϋ–Β–Ι –Ω–Ψ―Ä―΄ –Ζ–Α–±–Β–≥–Α–Μ–Ψ–≤–Κ–Η. –Γ –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Ψ–Φ –≤–Β―¹–Ϋ―΄ –Η ―²–Β–Ω–Μ–Α, –Ψ–Ϋ ―¹―²–Α–Μ –¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―΅–Α―¹―²–Ψ –Ζ–Α–≥–Μ―è–¥―΄–≤–Α―²―¨ ―¹―é–¥–Α: –Ω–Β―Ä–Β–≤–Β―¹―²–Η –¥―É―Ö –Ω–Ψ―¹–Μ–Β ―Ä–Α–±–Ψ―²―΄, –Ω–Ψ―¹–Μ―É―à–Α―²―¨ –Ϋ–Β–≥―Ä–Ψ–Φ–Κ―É―é –Φ―É–Ζ―΄–Κ―É, –≤―΄–Ω–Η―²―¨ ―΅–Α―à–Β―΅–Κ―É –Ζ–Β–Μ–Β–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―΅–Α―è. –£ –Ψ―²–Μ–Η―΅–Η–Β –Ψ―² –Ω–Ψ–¥–Ψ–±–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Ψ–¥–Α –Ζ–Α–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η–Ι, –≤ ―ç―²–Ψ–Φ –Κ–Α―³–Β, ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ψ–Ϋ –Ϋ–Β –Ω―΄―²–Α–Μ―¹―è –≤―¹–Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η―²―¨ –Ψ–±―Ä–Α―²–Ϋ–Ψ–Β, –≤―¹–Β–≥–¥–Α ―Ü–Α―Ä–Η–Μ–Α ―²–Η―Ö–Α―è ―¹–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Ι–Ϋ–Α―è –Α―²–Φ–Ψ―¹―³–Β―Ä–Α. –ü―É–±–Μ–Η–Κ–Α ―¹–Ψ–±–Η―Ä–Α–Μ–Α―¹―¨ –Ϋ–Β ―²–Ψ ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ ―¹–Ψ–Μ–Η–¥–Ϋ–Α―è, –Ϋ–Ψ –±–Β–Ζ –Ϋ―΄–Ϋ–Β―à–Ϋ–Β–≥–Ψ –≥–Ψ–Ϋ–Ψ―Ä–Α –Η –Ε–Β–Μ–Α–Ϋ–Η―è ―¹ –Ω–Ψ–Φ–Ω–Ψ–Ι –Ψ―²–Φ–Β―²–Η―²―¨ –Ψ―΅–Β―Ä–Β–¥–Ϋ–Ψ–Β ―¹–Ψ–±―΄―²–Η–Β –≤–Β–Κ–Α. –Γ–Κ–Α–Ϋ–¥–Α–Μ–Η―¹―²―΄ –Ζ–¥–Β―¹―¨ –Ϋ–Β –Ζ–Α–¥–Β―Ä–Ε–Η–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –Η –≤ –Ζ–Α–≤―¹–Β–≥–¥–Α―²–Α―è―Ö –Ϋ–Β –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η–Μ–Η―¹―¨. –ù–Ψ –Δ–Ψ–Μ―é, –Ϋ–Α –Ω―Ä–Α–≤–Α―Ö ―¹―²–Α―Ä–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ–Ψ–≥–Ψ, –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Α–Μ–Η ―Ä–Α–¥―É―à–Ϋ–Ψ. –®–Η–Κ–Ψ–≤–Α―²―¨ –Ψ–Ϋ, –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, ―¹–Β–±–Β –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Μ―è–Μ. –ù–Ψ –Ϋ–Η–Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Β ―¹–Κ―É–Ω–Η–Μ―¹―è –Ϋ–Α ―΅–Α–Β–≤―΄–Β, –±―΄–Μ –Ψ–±―â–Η―²–Β–Μ–Β–Ϋ –Η –Ϋ–Β–Η–Ζ–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Η–≤–Β―²–Μ–Η–≤ ―¹ –Ψ―³–Η―Ü–Η–Α–Ϋ―²–Α–Φ–Η. –£–Ψ―² ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―¹–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è –Ψ–Ϋ, –Κ–Α–Ε–Β―²―¹―è, –Ω–Β―Ä–Β–Ω–Ψ–Μ–Ψ―à–Η–Μ –Η―Ö –Ϋ–Β –Ϋ–Α ―à―É―²–Κ―É. –£–Φ–Β―¹―²–Ψ ―¹―²–Α–Ϋ–¥–Α―Ä―²–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Α–±–Ψ―Ä–Α, –Ω–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ –≤–Ψ–¥–Κ–Η, –±―É―²–Β―Ä–±―Ä–Ψ–¥–Ψ–≤ ―¹ ―Ä―΄–±–Ψ–Ι –Η –Ω–Α―Ä―É –Ω–Η–≤–Α. –û–Ω―Ä–Ψ–Κ–Η–Ϋ―É–≤ –Ε–Β –Ω–Β―Ä–≤―É―é ―Ä―é–Φ–Κ―É –Η –Ζ–Α–Κ―É―Ä–Η–≤ ―¹–Η–≥–Α―Ä–Β―²―É, –Ψ–Ϋ –Ω–Ψ–¥–Ψ–Ζ–≤–Α–Μ –Ψ–¥–Ϋ―É –Η–Ζ –¥–Β–≤―É―à–Β–Κ, –≤–Β–Ε–Μ–Η–≤–Ψ –Ω–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ –Ω―Ä–Η―¹–Β―¹―²―¨ ―Ä―è–¥–Ψ–Φ –Η, –Ϋ–Β–Ω―Ä–Η–≤―΄―΅–Ϋ–Ψ ―¹–Φ―É―â–Α―è―¹―¨, –Ζ–Α–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ:
βÄî –Γ–≤–Β―²–Η–Κ, ―¹–Ψ–Μ–Ϋ―΄―à–Κ–Ψ, βÄî ―¹–±–Η–≤―΅–Η–≤–Ψ –Η –Ϋ–Β–Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Α–Η–Κ–Α―è―¹―¨, –Ϋ–Α―΅–Α–Μ –Ψ–Ϋ. βÄî –·, –Ω–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α–Β―à―¨ –Μ–Η, –Ϋ–Α–Φ–Β―²–Η–Μ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ –Φ–Β―Ä–Ψ–Ω―Ä–Η―è―²–Η–Β, –Ϋ–Ψ ―¹–Μ–Β–≥–Κ–Α –Ζ–Α–Κ―Ä―É―²–Η–Μ―¹―è –Η –Ϋ–Β ―É―¹–Ω–Β–Μ –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η―²―¨―¹―è. –ê ―¹–Β–Ι―΅–Α―¹ –≤–¥―Ä―É–≥ –Ω–Ψ–¥―É–Φ–Α–Μ, –Φ–Ψ–Ε–Β―², ―²―΄ ―΅–Β–Φ –Ω–Ψ–Φ–Ψ–Ε–Β―à―¨?
βÄî –ê, ―΅–Β–≥–Ψ –Ϋ–Α–¥–Ψ-―²–Ψ? –£―΄ –Φ–Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ϋ–Α–Φ–Β–Κ–Ϋ–Η―²–Β, ―è –≤―¹–Β –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ―É―é –Ϋ–Α –≤―΄―¹―à–Β–Φ ―É―Ä–Ψ–≤–Ϋ–Β. –£―΄ –Ε ―²–Α–Κ–Ψ–Ι –Μ–Α–Ω–Ψ―΅–Κ–Α, βÄî ―É–Μ―΄–±–Ϋ―É–≤―à–Η―¹―¨, –¥–Ψ–±–Α–≤–Η–Μ–Α –Ψ–Ϋ–Α.
βÄî –ü–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α–Β―à―¨ –Μ–Η, –Φ–Η–Μ–Α―è, –¥―É―à–Α ―É –Φ–Β–Ϋ―è –≥–Ψ―Ä–Η―². –ü―Ä–Ψ―¹–Η―² ―΅–Β–≥–Ψ-―²–Ψ, –Α ―΅–Β–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ―¹–Η―² βÄî –Η ―¹–Α–Φ –Ϋ–Β –Ζ–Ϋ–Α―éβÄΠ
–ü―Ä―è―΅–Α –≤–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β, –Ψ–Ϋ –≤ –Ψ―΅–Β―Ä–Β–¥–Ϋ–Ψ–Ι ―Ä–Α–Ζ –Ζ–Α―²―è–Ϋ―É–Μ―¹―è, –Ζ–Α–Κ–Α―à–Μ―è–Μ―¹―è –Η –Ψ–¥–Ϋ–Η–Φ –Φ–Α―Ö–Ψ–Φ –≤―΄–Ω–Α–Μ–Η–Μ:
βÄî –Δ―É―² ―²–Α–Κ–Ψ–Β –¥–Β–Μ–Ψ, –Κ―Ä–Α―¹–Α–≤–Η―Ü–Α: –≤ –±–Α–Ϋ―¨–Κ―É ―è –Ϋ–Α–¥―É–Φ–Α–Μ ―¹―Ö–Ψ–¥–Η―²―¨. –ù–Ψ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ―É –Ϋ–Β ―¹ ―Ä―É–Κ–Η –≤―Ä–Ψ–¥–Β, –Φ–Ϋ–Β –±―΄ ―¹ –¥–Β–≤–Ψ―΅–Κ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–Ω–Α―Ä–Η―²―¨―¹―è. –ù–Ψ ―²–Α–Κ–Ψ–Ι, ―΅―²–Ψ–± ―¹ –Ψ–Ω―΄―²–Ψ–Φ –±―΄–Μ–Α –Η –±–Β–Ζ ―²–Α―Ä–Α–Κ–Α–Ϋ–Ψ–≤ –≤ –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤–Β βÄî –Ω–Ψ–¥―¹–Ψ–±–Η―à―¨?
βÄî –ß―²–Ψ –Ε –≤―΄ ―¹―Ä–Α–Ζ―É-―²–Ψ –Ϋ–Η―΅–Β–≥–Ψ –Ϋ–Β ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Η, ―¹–Η–¥–Β–Μ–Η ―²―É―² ―¹–Φ―É―â–Α–Μ–Η―¹―¨. –ù–Β―É–Ε–Β–Μ–Η –Ϋ–Η–Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Β –Μ–Β–≤–Α―΅–Η–Μ–Η? –Ξ–Ψ―²―¨ –±―΄ –Ϋ–Β–≤–Ζ–Ϋ–Α―΅–Α–Ι –Ϋ–Α–Φ–Β–Κ–Ϋ―É–Μ–Η, ―è –±―΄ –¥–Α–≤–Ϋ–Ψ –≤―¹–Β ―É―¹―²―Ä–Ψ–Η–Μ–Α, –Α ―²–Α–Κ –Ω–Ψ–¥–Ψ–Ε–¥–Α―²―¨ –Ω―Ä–Η–¥–Β―²―¹―è. –€–Η–Ϋ―É―² ―²―Ä–Η–¥―Ü–Α―²―¨ –Ϋ–Α–Ζ–Α–¥ –Ω–Β―Ä–≤―΄–Ι –Κ–Μ–Η–Β–Ϋ―² –Ψ–±―ä―è–≤–Η–Μ―¹―è. –Δ–Β–Ω–Β―Ä―¨ –Ϋ–Β –Φ–Β–Ϋ―¨―à–Β ―΅–Α―¹–Α –Κ―É―Ä–Η―²―¨ –±―É–¥–Β―²–Β. –‰, –Κ―¹―²–Α―²–Η, –≤–Α–Φ –±–Μ–Ψ–Ϋ–¥–Η–Ϋ–Κ―É –Η–Μ–Η ―à–Α―²–Β–Ϋ–Κ―É –Ζ–Α–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α―²―¨? βÄî –Ω―Ä–Ψ―³–Β―¹―¹–Η–Ψ–Ϋ–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Ψ–≤–Α–Μ–Α―¹―¨ –¥–Β–≤―É―à–Κ–Α.
βÄî –î–Α –≤―¹–Β ―Ä–Α–≤–Ϋ–Ψ –Φ–Ϋ–Β, –Μ–Η―à―¨ –±―΄ ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Β–Ϋ―¨–Κ–Α―è –±―΄–Μ–Α. –ê ―É –≤–Α―¹ ―΅―²–Ψ βÄî –Η ―¹–Α―É–Ϋ―É, –Η ―Ä―É―¹–Α–Μ–Ψ–Κ, –Ω―Ä―è–Φ–Ψ –≤ –Κ–Α―³–Β –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Ψ–≤–Α―²―¨ –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ? βÄî ―É–¥–Η–≤–Η–Μ―¹―è –Ψ–Ϋ.
βÄî –ù–Α–Η–≤–Ϋ―΄–Ι –≤―΄ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β―΅–Η―â–Β, βÄî –Ζ–Α―¹–Φ–Β―è–Μ–Α―¹―¨ –Γ–≤–Β―²–Α, βÄî –Ζ–Α ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Η–Β –¥–Β–Ϋ―¨–≥–Η, –≤ –Ϋ–Α―à–Β –≤―Ä–Β–Φ―è –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―Ä―É―¹–Α–Μ–Ψ–Κ, ―΅–Β―Ä―²–Α –Μ―΄―¹–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Α–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨ –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ. –Γ–Η–¥–Η―²–Β ―É–Ε–Β βÄî –Ε–¥–Η―²–Β. –£―Ä–Β–Φ―è –Ω–Ψ–¥–Ψ–Ι–¥–Β―², –Ω–Ψ–Ζ–Ψ–≤―É.
–½–Α–≤–Β―²–Ϋ―΄–Β ¬Ϊ–Ϋ―É–Φ–Β―Ä–Α¬Μ –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η–Μ–Η ―΅–Β―Ä–Β–Ζ ―΅–Α―¹. –Γ–Μ–Β–≥–Κ–Α –Ω–Ψ―à–Α―²―΄–≤–Α―è―¹―¨ –Η –Ω–Ψ–Κ―É―¹―΄–≤–Α―è ―³–Η–Μ―¨―²―Ä ―¹–Η–≥–Α―Ä–Β―²―΄, –Ζ–Α–≤–Β–¥–Ψ–Φ–Ψ ―¹–Ψ–Ε–Α–Μ–Β―è –Ψ –Ζ–Α–¥―É–Φ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ, –Ψ–Ϋ –Ω–Μ–Β–Μ―¹―è –Ζ–Α –Α–¥–Φ–Η–Ϋ–Η―¹―²―Ä–Α―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ –Ω–Ψ –Ϋ–Β―Ö–Ψ–Ε–Β–Ϋ―΄–Φ ―Ä–Α–Ϋ–Β–Β –Κ–Ψ―Ä–Η–¥–Ψ―Ä–Α–Φ –Κ–Α―³–Β ―¹ ¬Ϊ–Κ–Μ―É–±–Ϋ–Η―΅–Κ–Ψ–Ι¬Μ. –£ –Κ–Α–Κ–Ψ–Ι-―²–Ψ –Φ–Ψ–Φ–Β–Ϋ―², –≤―¹–Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η–≤ –Ψ –Ϋ–Β–Ζ–Α–Ε–Ε–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–Η–≥–Α―Ä–Β―²–Β, –Ψ–Ϋ ―΅–Η―Ä–Κ–Ϋ―É–Μ –Κ–Ψ–Ω–Β–Β―΅–Ϋ–Ψ–Ι –Ζ–Α–Ε–Η–≥–Α–Μ–Κ–Ψ–Ι –Η –Ω–Ψ–Ϋ―è–Μ, ―΅―²–Ψ ―¹–Α―É–Ϋ–Α ¬Ϊ–Ϋ–Α–Κ―Ä―΄–Μ–Α―¹―¨ –Φ–Β–¥–Ϋ―΄–Φ ―²–Α–Ζ–Ψ–Φ¬Μ, ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ –Ω–Ψ-–Ω―Ä–Β–Ε–Ϋ–Β–Φ―É –Μ―é–±–Η―² ―¹–≤–Ψ―é –ù–Η–Ϋ―É, –Α, ―²–Α–Κ –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β–Φ―΄–Ι, –Ψ―²–¥―΄―Ö –Ϋ–Α ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Β –Ϋ–Η –Ψ–±–Μ–Β–≥―΅–Β–Ϋ–Η―è, –Ϋ–Η ―Ä–Α–¥–Ψ―¹―²–Η –Ϋ–Β –Ω―Ä–Η–Ϋ–Β―¹–Β―². –û―² –Ω–Ψ–Ϋ―è―²–Ψ–≥–Ψ –Η –≤―΄–Ω–Η―²–Ψ–≥–Ψ –Β–≥–Ψ –Ζ–Α–Φ―É―²–Η–Μ–Ψ. –½–Α―Ö–Ψ―²–Β–Μ–Ψ―¹―¨ –≤―¹–Β ―Ä–Α–Ζ–Ψ–Φ –±―Ä–Ψ―¹–Η―²―¨ –Η, –Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ―É –Ϋ–Η―΅–Β–≥–Ψ –Ϋ–Β –Ψ–±―ä―è―¹–Ϋ―è―è, –Ψ―²–Ω―Ä–Α–≤–Η―²―¨―¹―è –¥–Ψ–Φ–Ψ–Ι. –ï–Φ―É –Ζ–Α―Ö–Ψ―²–Β–Μ–Ψ―¹―¨ –Μ―é–±–≤–Η. –ù–Ψ –Ϋ–Β –Ϋ–Α ―΅–Α―¹, –Ϋ–Β –Ζ–Α –¥–Β–Ϋ―¨–≥–Η, –Α –Μ―é–±–≤–Η –Ϋ–Α―¹―²–Ψ―è―â–Β–Ι, ―¹–≤–Β―²–Μ–Ψ–Ι –Η, –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ, ―΅―É―²―¨-―΅―É―²―¨ –Κ–Η–Ϋ–Ψ―à–Ϋ–Ψ–Ι. –¦―é–±–≤–Η, ―΅―²–Ψ –Ω―Ä–Η–≥―Ä–Β–Ζ–Η–Μ–Α―¹―¨ –≤ ―é–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, –Ω–Ψ–Φ–Α–Ϋ–Η–Μ–Α –Η –±―Ä–Ψ―¹–Η–Μ–Α –Ϋ–Α –Ω–Ψ–Μ–¥–Ψ―Ä–Ψ–≥–Η!..
βÄî –ù―É, –≤–Ψ―² –Φ―΄ –Η –Ω―Ä–Η―à–Μ–Η. –½–Α ―¹–Α―É–Ϋ―É, ―Ä–Α―¹―¹―΅–Η―²–Α–Β―²–Β―¹―¨ –Ω–Ψ–Ζ–Ε–Β. –ß–Β―Ä–Β–Ζ –Ω–Α―Ä―É ―΅–Α―¹–Ψ–≤ ―è –Ω–Ψ–¥–Ψ―à–Μ―é –Κ–Ψ–≥–Ψ-–Ϋ–Η–±―É–¥―¨ –Η–Ζ –Ω–Β―Ä―¹–Ψ–Ϋ–Α–Μ–Α. –½–Α –Ψ―¹―²–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β (―Ä―É―¹–Α–Μ–Κ–Η –Ϋ–Β –≤ –Ϋ–Α―à–Β–Ι –Κ–Ψ–Φ–Ω–Β―²–Β–Ϋ―Ü–Η–Η) βÄî –Ζ–Α–Ω–Μ–Α―²–Η―²–Β –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ–Φ―É ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ―É. βÄî –ù–Η–Ζ–Κ–Η–Ι, ―¹ –Ϋ–Ψ―²–Κ–Ψ–Ι ―¹–Α―Ä–Κ–Α–Ζ–Φ–Α, –≥–Ψ–Μ–Ψ―¹ –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ε–Α―²–Ψ–≥–Ψ –≤―΄–≤–Β–Μ –î–Β―Ä–Ε–Α–≤–Η–Ϋ–Α –Η–Ζ ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Η―è ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Α.
–Γ–Μ–Β–≥–Κ–Α –Ω―Ä–Η―â―É―Ä–Η–≤―à–Η―¹―¨ –Ψ―² –¥―΄–Φ–Α, –Ψ–Ϋ ―Ä–Α–≤–Ϋ–Ψ–¥―É―à–Ϋ―΄–Φ –≤–Ζ–≥–Μ―è–¥–Ψ–Φ –Ψ–±–≤–Β–Μ –Κ–Ψ–Φ–Ϋ–Α―²―É –¥–Μ―è ―É―²–Β―Ö. –ü–Ψ–Ζ–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤–Α–Μ―¹―è ―¹ –¥–Ψ–Μ–≥–Ψ–≤―è–Ζ―΄–Φ –Η –Ψ―²―΅–Β–≥–Ψ-―²–Ψ ―Ä–Α―¹―²–Β―Ä―è–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Ω–Α―Ä–Ϋ–Β–Φ. –½–Α―²–Β–Φ –Ϋ–Β―Ö–Ψ―²―è, –±–Β–Ζ –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Α, –Ω–Ψ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β–Μ –Ϋ–Α –≥–Β–Ι―à –Φ–Β―¹―²–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Α–Ζ–Μ–Η–≤–Α. –Γ –Ψ―²–≤―Ä–Α―â–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Ψ―² –Ϋ–Η―Ö –Ψ―²–≤–Β―Ä–Ϋ―É–Μ―¹―è –Η –Ϋ–Β–≥―Ä–Ψ–Φ–Κ–Ψ ―¹–Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ ―É –¥–Ψ–Μ–≥–Ψ–≤―è–Ζ–Ψ–≥–Ψ:
βÄî –Γ–Μ―΄―à―¨, –Μ―é–±–Β–Ζ–Ϋ―΄–Ι, ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―è ―²–Β–±–Β –Ζ–Α –±–Β―¹–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Ι―¹―²–≤–Ψ –¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ? βÄî –ü–Ψ–Ι–¥―É ―è, –Ω–Ψ–Ε–Α–Μ―É–Ι. –Θ–Ε –±–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ϋ–Β–Ψ―Ö–Ψ―²–Α –Ζ–Α ―²–≤–Ψ–Η―Ö –Φ–Α–Μ–Ψ–Μ–Β―²–Ψ–Κ ―¹―Ä–Ψ–Κ –Φ–Ψ―²–Α―²―¨. βÄî –û–Ϋ –¥–Ψ―¹―²–Α–Μ –Ω–Ψ―Ä―²–Φ–Ψ–Ϋ–Β, –Ϋ–Ψ, ―²–Α–Κ –Η –Ϋ–Β –¥–Ψ–Ε–¥–Α–≤―à–Η―¹―¨ –Ψ―²–≤–Β―²–Α, –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –≥–Μ―è–Ϋ―É–Μ –Ϋ–Α ―¹–Ψ–±―Ä–Α–≤―à―É―é―¹―è –Ω–Ψ –≤―΄–Ζ–Ψ–≤―É –Η –≤–Ϋ–Β–Ζ–Α–Ω–Ϋ–Ψ –Ψ―Ä–Ψ–±–Β–≤―à―É―é ¬Ϊvip¬Μ-–Κ–Ψ–Φ–Ω–Α–Ϋ–Η―é. –™–Μ―è–Ϋ―É–Μ βÄî –Η –Ψ–±–Ψ–Φ–Μ–Β–Μ, –Α ―Ö–Φ–Β–Μ―¨, –Κ–Α–Κ ―Ä―É–Κ–Ψ–Ι ―¹–Ϋ―è–Μ–Ψ! –Γ–Ω―Ä―è―²–Α–≤―à–Η―¹―¨ –Ζ–Α ―¹–Ω–Η–Ϋ–Α–Φ–Η –Ω–Ψ–¥―Ä―É–≥, ―¹ ―à–Η―Ä–Ψ–Κ–Ψ –Ψ―²–Κ―Ä―΄―²―΄–Φ–Η –Ψ―² –Ϋ–Β–Ψ–Ε–Η–¥–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –≥–Μ–Α–Ζ–Α–Φ–Η, –Ϋ–Α –Κ–Ψ–Ε–Α–Ϋ–Ψ–Φ –¥–Η–≤–Α–Ϋ―΅–Η–Κ–Β ―¹–Η–¥–Β–Μ–Α ―Ä–Α–Ζ–Φ–Α–Μ–Β–≤–Α–Ϋ–Ϋ–Α―è –¥–Ψ –Ϋ–Β―É–Ζ–Ϋ–Α–≤–Α–Β–Φ–Ψ―¹―²–Η –°–Μ―¨–Κ–Α! –ï–≥–Ψ –¥–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ–Ι –Η –Μ―é–±–Η–Φ―΄–Ι ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β―΅–Β–Κ βÄî –Β–≥–Ψ –¥–Ψ―΅―¨! –‰ –≤ ―²―É –Ε–Β ―¹–Β–Κ―É–Ϋ–¥―É –Ψ–Ϋ –Ω–Ψ–Ϋ―è–Μ, –Ω–Ψ―΅–Β–Φ―É –Ω–Β―Ä–Β–Ω―É–≥–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Ω–Α―Ä–Ϋ–Η―à–Κ–Α –≤–¥―Ä―É–≥ –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ―¹―è –Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ―΄–Φ. –î–Α –Η ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Ψ –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Ϋ―è―²―¨ –Ψ―΅–Β–≤–Η–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ. –£–Β–¥―¨ –Η–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―ç―²–Ψ―² –Η–Ϋ―²–Β–Μ–Μ–Η–≥–Β–Ϋ―²–Ϋ–Ψ–Ι –Ϋ–Α―Ä―É–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Φ–Ψ–Μ–Ψ–Κ–Ψ―¹–Ψ―¹, –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η–Μ –Κ –Β–≥–Ψ –¥–Ψ―΅–Β―Ä–Η! –ù–Ψ –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η–Μ –≤–Β―΅–Β―Ä–Α–Φ–Η, –Ω–Ψ–¥–Ψ–Μ–≥―É –Ϋ–Η–Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Β –Ζ–Α―¹–Η–Ε–Η–≤–Α–Μ―¹―è –Η, ―¹―¹―΄–Μ–Α―è―¹―¨ –Ϋ–Α –Ϋ–Β–Ψ―²–Μ–Ψ–Ε–Ϋ―΄–Β –¥–Β–Μ–Α, –Κ―É–¥–Α-―²–Ψ ―É–≤–Ψ–Ζ–Η–Μ ―Ä–Α―¹―³―É―³―΄―Ä–Β–Ϋ–Ϋ―É―é, –Ϋ–Α―¹–Κ–Ψ―Ä–Ψ –Ω–Β―Ä–Β–Κ―É―¹–Η–≤―à―É―é ―²–Β―â–Η–Ϋ―΄–Φ–Η –Ω–Η―Ä–Ψ–Ε–Κ–Α–Φ–Η –°–Μ―¨–Κ―É. –£–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―â–Α–Μ–Α―¹―¨ –Ψ–Ϋ–Α ―É–Ε–Β –Ω–Ψ–Ζ–¥–Ϋ–Ψ, –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Ω–Ψ–Μ―É–Ϋ–Ψ―΅–Η, ―è–≤–Ϋ–Ψ ―É―¹―²–Α–≤―à–Α―è, –Ϋ–Ψ –≤–Β―¹–Β–Μ–Α―è –Η –¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Α―èβÄΠ
βÄî –£―΄ ―΅―²–Ψ, –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥―΄–Φ–Η –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Η, –Ϋ–Α –¥–Η―¹–Κ–Ψ―²–Β–Κ–Α―Ö –Ϋ–Η–Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Β –Ζ–Α–Ε–Η–≥–Α–Μ–Η? βÄî –Ψ―²–Φ–Α―Ö–Η–≤–Α–Μ–Α―¹―¨ –Ψ–Ϋ–Α –Ψ―² –Η–Ζ–Μ–Η―à–Ϋ–Β –Ϋ–Α–≤―è–Ζ―΅–Η–≤―΄―Ö –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹–Ψ–≤ –Φ–Α―²–Β―Ä–Η. –‰ –≤―¹–Β –Β–Ι ―¹―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ ―¹ ―Ä―É–Κ. –‰ –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨ ―É―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Α ―¹–≤–Ψ–Η–Φ ―΅–Β―Ä–Β–¥–Ψ–Φ: –Ϋ–Η ―à–Α―²–Κ–Ψ, –Ϋ–Η –≤–Α–Μ–Κ–Ψ βÄî ―¹–Ψ–≥–Μ–Α―¹–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Η–¥―É–Φ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Β–Φ-―²–Ψ –≥―Ä–Α―³–Η–Κ–Α. –ê ―¹–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è –Ψ–Ϋ –Ω–Ψ–Ϋ―è–Μ, –Ω―É―¹―²―¨ –Ζ–Α–Ω–Ψ–Ζ–¥–Α–Μ–Ψ –Η ―¹–Ψ–≤―¹–Β–Φ ―É–Ε –Ϋ–Β–Κ―¹―²–Α―²–Η, –Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–Ϋ―è–Μ –≤ –Κ–Α–Κ–Ψ–Φ –Φ–Η―Ä–Β –Η ―΅–Β–Φ –Ε–Η–≤–Β―² –Β–≥–Ψ –Ϋ–Β–Ω―É―²–Β–≤–Α―è –¥–Ψ―΅―¨ –Η –Ψ―²–Κ―É–¥–Α –±–Β―Ä―É―²―¹―è –¥–Β–Ϋ―¨–≥–Η –Ϋ–Α –Ω–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Α–Β–Φ–Ψ–≥–Ψ –¥–Β–≤–Η―΅―¨–Β–≥–Ψ –≥–Α―Ä–¥–Β―Ä–Ψ–±–Α. –û–Ϋ ―¹–Μ–Η―à–Κ–Ψ–Φ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ–Β –Ω–Ψ–Ϋ―è–Μ. –‰ –≤―¹―è –Β–≥–Ψ –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨ –≤ –Φ–≥–Ϋ–Ψ–≤–Β–Ϋ–Η–Β –Ψ–Κ–Α –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Α―¹―¨ ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ϋ–Η–Κ―΅–Β–Φ–Ϋ–Ψ–Ι, –≤―²–Ψ―Ä–Ψ―¹―²–Β–Ω–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Η –≥–Μ―É–Ω–Ψ–Ι. –ù–Ψ–≥–Η –Ϋ–Β–Ψ–Ε–Η–¥–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ ―¹–¥–Β–Μ–Α–Μ–Η―¹―¨ –≤–Α―²–Ϋ―΄–Φ–Η, –≤ –≥―Ä―É–¥–Η ―΅―²–Ψ-―²–Ψ ―É―Ö–Ϋ―É–Μ–Ψ, –Α –Ω–Β―Ä–Β–¥ –≥–Μ–Α–Ζ–Α–Φ–Η –Ω–Ψ–≤–Η―¹–Μ–Α –Ω–Μ–Ψ―²–Ϋ–Α―è –Ω―Ä–Ψ―¹―²―΄–Ϋ―è ―²―É–Φ–Α–Ϋ–Α, –Ϋ–Α –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Ζ–Α–Φ–Β–Μ―¨–Κ–Α–Μ–Η ―΅–Β―Ä–Ϋ–Ψ-–±–Β–Μ―΄–Β –Κ–Α–¥―Ä―΄ –Η–Ζ –≤–Η–¥–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ–¥–Ϋ–Α–Ε–¥―΄ –Κ–Η–Ϋ–Ψ―³–Η–Μ―¨–Φ–Α. –û–Ϋ –Ω–Ψ–Ω―΄―²–Α–Μ―¹―è ―¹–Ψ―¹―Ä–Β–¥–Ψ―²–Ψ―΅–Η―²―¨―¹―è, –≤–Ϋ–Η–Κ–Ϋ―É―²―¨ –≤ –Ω―Ä–Ψ–Η―¹―Ö–Ψ–¥―è―â–Β–Β βÄî –≤―¹–Β ―²―â–Β―²–Ϋ–Ψ. –ù–Β―¹–Φ–Ψ―²―Ä―è –Ϋ–Α ―É―¹–Η–Μ–Η―è, ―¹–Φ―΄―¹–Μ ―³–Η–Μ―¨–Φ–Α –Ϋ–Β–¥–Ψ―¹―è–≥–Α–Β–Φ, ―¹―é–Ε–Β―²–Ϋ–Α―è –Μ–Η–Ϋ–Η―è –Κ–Α–Ε–Β―²―¹―è –Ϋ–Β–Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Ϋ–Ψ–Ι –Η ―¹–Κ―É―΅–Ϋ–Ψ–Ι. –ö–Α–¥―Ä―΄ –Φ–Β–Ϋ―è―é―²―¹―è ―¹–Μ–Η―à–Κ–Ψ–Φ –±―΄―¹―²―Ä–Ψ, ―²–Α–Κ –±―΄―¹―²―Ä–Ψ, ―΅―²–Ψ –Η ―Ä–Α–Ζ–Ψ–±―Ä–Α―²―¨-―²–Ψ –Ϋ–Η―΅–Β–≥–Ψ –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Α–Β―²―¹―è. –ù–Ψ –Μ–Β–Ϋ―²–Α –Ζ–Α–Φ–Β–¥–Μ―è–Β―² ―¹–≤–Ψ–Ι –±–Β–≥βÄΠ –Η –≤–Ψ―² ―É–Ε–Β ―É–≥–Α–¥―΄–≤–Α―é―²―¹―è –Ψ―΅–Β―Ä―²–Α–Ϋ–Η―è –¥–Ψ–Φ–Ψ–≤, ―¹–Η–Μ―É―ç―²―΄ –Μ―é–¥–Β–ΙβÄΠ –Η, –Ω–Ψ –≤–Β–Μ–Β–Ϋ–Η―é –Ω―Ä–Η―²–Α–Η–≤―à–Β–≥–Ψ―¹―è –Ϋ–Β–Ω–Ψ–¥–Α–Μ–Β–Κ―É ―Ä–Β–Ε–Η―¹―¹–Β―Ä–Α, –Η–Ζ-–Ω–Ψ–¥ –Ϋ–Α―¹–Κ–Ψ―Ä–Ψ ―¹–Κ–Ψ–Μ–Ψ―΅–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Η –Ϋ–Β―É–Φ–Β–Μ–Ψ ―Ä–Α–Ζ―É–Κ―Ä–Α―à–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Α–≤–Β―¹–Α –Β–Φ―É –Ϋ–Α –≤―¹―²―Ä–Β―΅―É –≤―΄–±–Β–≥–Α–Β―² –Φ–Α–Μ–Β–Ϋ―¨–Κ–Α―è ―¹–Φ–Β―à–Μ–Η–≤–Α―è –¥–Β–≤―΅―É―à–Κ–ΑβÄΠ –Ξ―É–¥–Β–Ϋ―¨–Κ–Η–Φ–Η –Ϋ–Ψ–Ε–Κ–Α–Φ–Η –Ψ–Ϋ–Α ―¹–Β–Φ–Β–Ϋ–Η―² –Ω–Ψ –¥–Β―²―¹–Κ–Ψ–Ι –Ω–Μ–Ψ―â–Α–¥–Κ–Β –Η ―¹ –Ϋ–Β–Ω–Ψ–¥–¥–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι ―Ä–Α–¥–Ψ―¹―²―¨―é, –Ζ–≤–Ψ–Ϋ–Κ–Ψ –Κ―Ä–Η―΅–Η―²:
βÄî –€–Α–Φ–Ψ―΅–Κ–Α, –Φ–Α–Φ–Α, ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Η βÄî –Ϋ–Α―à –Ω–Α–Ω–Κ–Α –Ω―Ä–Η―à–Β–Μ!
–î–Β–≤–Ψ―΅–Κ–Α ―¹–Ψ–±–Η―Ä–Α–Β―²―¹―è –±―Ä–Ψ―¹–Η―²―¨―¹―è –Β–Φ―É –Ϋ–Α ―à–Β―é, –Ϋ–Ψ –Ω–Μ–Β–Ϋ–Κ–Α –Ψ―¹―²–Α–Ϋ–Α–≤–Μ–Η–≤–Α–Β―²―¹―è, ―Ä–≤–Β―²―¹―è, –Ϋ–Α –Ω–Ψ–Μ–Ψ―²–Ϋ–Β –Ω–Ψ―è–≤–Μ―è―é―²―¹―è –Κ―Ä―É–≥–Η –Η ―Ä–Α–Ζ–≤–Ψ–¥―΄βÄΠ –Δ―É–Φ–Α–Ϋ ―¹–≥―É―â–Α–Β―²―¹―è, –Η –Ψ–Ϋ –Ω―Ä–Ψ–≤–Α–Μ–Η–≤–Α–Β―²―¹―è, –Η –Ϋ–Β―É–¥–Β―Ä–Ε–Η–Φ–Ψ –Μ–Β―²–Η―² –≤ –Ζ–≤–Β–Ϋ―è―â―É―é ―²–Η―à–Η–Ϋ–Ψ–Ι –±–Β–Ζ–¥–Ϋ―ÉβÄΠ –û–Ϋ ―É–Ε–Β ―²–Α–Κ –¥–Α–Μ–Β–Κ–Ψ, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Β ―¹–Μ―΄―à–Η―² –Ϋ–Η―΅–Β–≥–Ψ –Κ―Ä–Ψ–Φ–Β –Ζ–Α―²―É―Ö–Α―é―â–Β–Ι, –Ϋ–Β–¥–Ψ–Ω–Β―²–Ψ–Ι –Ω–Β―¹–Ϋ–Η –Ω–Ψ–≤―¹―²―Ä–Β―΅–Α–≤―à–Β–≥–Ψ―¹―è ―É –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Ω―¨―è–Ϋ―΅―É–≥–Η:
–£–¥–Ψ–Μ―¨ –¥–Ψ―Ä–Ψ–≥–Η –≤―¹–Β –Ϋ–Β ―²–Α–Κ,
–ê –≤ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Β –Ω–Ψ–¥–Α–≤–Ϋ–Ψ.
–‰ –Ϋ–Β ―Ü–Β―Ä–Κ–Ψ–≤―¨, –Ϋ–Η –Κ–Α–±–Α–Κ, βÄ™
–ù–Η―΅–Β–≥–Ψ –Ϋ–Β ―¹–≤―è―²–Ψ!
–ù–Β―², ―Ä–Β–±―è―²–Α, –≤―¹–Β –Ϋ–Β ―²–Α–Κ,
–£―¹–Β –Ϋ–Β ―²–Α–Κ, ―Ä–Β–±―è―²–ΑβÄΠ
–‰–≥–Ψ―Ä―¨ –€–Α―Ä–Α–Ϋ–Η–Ϋ
–ö–Θ–€–‰–† –î–û–ß–ï–†–‰ –û–Λ–ï–ù–‰
–¦–Β―² –≤ –¥–Β―¹―è―²―¨-–Ω―è―²–Ϋ–Α–¥―Ü–Α―²―¨ –Ω–Ψ―΅―²–Η ―É –Κ–Α–Ε–¥–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–¥―Ä–Ψ―¹―²–Κ–Α –Ω–Ψ―è–≤–Μ―è–Β―²―¹―è ―¹–≤–Ψ–Ι –Κ―É–Φ–Η―Ä. –Θ –Ψ–¥–Ϋ–Η―Ö –Ψ–Ϋ –Ε–Η–≤–Β―² –Ϋ–Β–¥–Ψ–Μ–≥–Ψ βÄî –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Μ–Β―², –Ω–Ψ–Κ–Α ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ –Ϋ–Β –Ω–Ψ–≤–Ζ―Ä–Ψ―¹–Μ–Β–Β―², ―É –¥―Ä―É–≥–Η―Ö –Ζ–Α–¥–Β―Ä–Ε–Η–≤–Α–Β―²―¹―è –Ϋ–Α –≤―¹―é –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨. –î–Β―²―¹–Κ–Η–Φ –Κ―É–Φ–Η―Ä–Ψ–Φ –ü–Ψ–Μ–Η–Ϋ―΄ –±―΄–Μ ―¹―²–Α―Ä―΄–Ι –Α–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι –Β–≤―Ä–Β–Ι –Ω–Ψ –Η–Φ–Β–Ϋ–Η –‰―¹–Α–Α–Κ –€–Β―Ä–Η―². –ö 1914 –≥–Ψ–¥―É, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Β–Ι –Η―¹–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –¥–Β―¹―è―²―¨ –Μ–Β―², –Ψ–Ϋ –Ω–Ψ―΅―²–Η ―¹–Ψ―Ä–Ψ–Κ –Μ–Β―² –Κ–Α–Κ ―É–Φ–Β―Ä. –ê–Φ–±–Η―Ü–Η–Ψ–Ζ–Ϋ―΄–Ι, –Ϋ–Β–≥―Ä–Α–Φ–Ψ―²–Ϋ―΄–Ι, –Μ–Η―à–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –≤―¹―è―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö –Φ–Ψ―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –Ω―Ä–Η–Ϋ―Ü–Η–Ω–Ψ–≤, –Ψ–Ϋ ―¹–Φ–Β–Ϋ–Η–Μ –Φ–Α―¹―¹―É –Ω―Ä–Ψ―³–Β―¹―¹–Η–Ι, –Ψ―¹―²–Α–≤–Μ―è―è –Ω–Ψ―¹–Μ–Β ―¹–Β–±―è –¥–Β―¹―è―²–Κ–Η –±―Ä–Ψ―à–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ε–Β–Ϋ―â–Η–Ϋ –Η –Ϋ–Β–Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ―Ä–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –¥–Β―²–Β–Ι. –ö–Α–Κ ―²–Α–Κ–Ψ–Ι –Φ–Ψ–Ε–Β―² ―¹―²–Α―²―¨ –Κ―É–Φ–Η―Ä–Ψ–Φ –¥–Β―¹―è―²–Η–Μ–Β―²–Ϋ–Β–Ι –¥–Β–≤–Ψ―΅–Κ–Η? –Γ–Β–Ι―΅–Α―¹ ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ε―É.
–ü–Β―Ä–Β–¥ –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Ι –Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ι –≤–Ψ–Ι–Ϋ–Ψ–Ι –Δ―Ä–Ψ―³–Η–Φ –£–Α―¹–Η–Μ―¨–Β–≤–Η―΅, –Ψ―²–Β―Ü –ü–Ψ–Μ–Η–Ϋ―΄, –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Μ–Β―² –Ζ–Α–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ―¹―è –Κ–Ψ―Ä–Ψ–±–Β–Ι–Ϋ–Η―΅–Β―¹―²–≤–Ψ–Φ. –Γ―²–Α–Μ –Ψ―³–Β–Ϋ–Β–Ι, –Κ–Α–Κ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ–Η ―Ä–Α–Ϋ―¨―à–Β. –ü–Ψ –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Η―é ―¹–Μ–Ψ–≤–Α―Ä―è –î–Α–Μ―è, –Ψ―³–Β–Ϋ―è ―ç―²–Ψ ¬Ϊ―Ö–Ψ–¥–Β–±―â–Η–Κ, –Κ–Α–Ϋ―²―é–Ε–Ϋ–Η–Κ, ―Ä–Α–Ζ–Ϋ–Ψ―¹―΅–Η–Κ ―¹ –Η–Ζ–≤–Ψ–Ζ–Ψ–Φ, –Κ–Ψ―Ä–Ψ–±–Β–Ι–Ϋ–Η–Κ, ―â–Β–Ω–Β―²–Η–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ, –Φ–Β–Μ–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Ι ―²–Ψ―Ä–≥–Α―à –≤―Ä–Α–Ζ–Ϋ–Ψ―¹–Κ―É –Η –≤―Ä–Α–Ζ–≤–Ψ–Ζ–Κ―É –Ω–Ψ –Φ–Α–Μ―΄–Φ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Α–Φ, ―¹–Β–Μ–Α–Φ, –¥–Β―Ä–Β–≤–Ϋ―è–Φ, ―¹ –Κ–Ϋ–Η–≥–Α–Φ–Η, –±―É–Φ–Α–≥–Ψ–Ι, ―à–Β–Μ–Κ–Ψ–Φ, –Η–≥–Μ–Α–Φ–Η, ―¹ ―¹―΄―Ä–Ψ–Φ –Η –Κ–Ψ–Μ–±–Α―¹–Ψ–Ι, ―¹ ―¹–Β―Ä―¨–≥–Α–Φ–Η –Η –Κ–Ψ–Μ–Β―΅–Κ–Α–Φ–Η¬Μ. –ü–Ψ―è–≤–Η–Μ–Η―¹―¨ –Ψ–Ϋ–Η –Β―â–Β –≤ –Ω―è―²–Ϋ–Α–¥―Ü–Α―²–Ψ–Φ –≤–Β–Κ–Β, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –±–Ψ–Μ―¨―à–Α―è –≥―Ä―É–Ω–Ω–Α –≥―Ä–Β–Κ–Ψ–≤ ―ç–Φ–Η–≥―Ä–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ–Α –Ϋ–Α –†―É―¹―¨ –Η–Ζ –ê―³–Η–Ϋ. –≠–Φ–Η–≥―Ä–Α–Ϋ―²–Ψ–≤ ―²–Α–Κ –Η –Ω―Ä–Ψ–Ζ–≤–Α–Μ–Η βÄî –Α―³–Η–Ϋ–Α–Φ–Η (–Α―³–Β–Ϋ―è–Φ–Η, –Ψ―³–Β–Ϋ―è–Φ–Η). –ü―Ä–Ψ―à–Μ–Ψ –Μ–Β―² ―¹―²–Ψ, –Κ―Ä–Ψ–≤―¨ –≥–Ψ―Ä―è―΅–Η―Ö –≥―Ä–Β―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö ―²–Ψ―Ä–≥–Ψ–≤―Ü–Β–≤ –Ω–Β―Ä–Β–Φ–Β―à–Α–Μ–Α―¹―¨ ―¹ –Κ―Ä–Ψ–≤―¨―é ―Ä―É―¹―¹–Κ–Η―Ö –Κ―Ä–Α―¹–Α–≤–Η―Ü, –Η –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨ ―¹–≤–Ψ–Β–Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ϋ–Ψ–Β ―²–Α–Ι–Ϋ–Ψ–Β ―¹–Ψ–Ψ–±―â–Β―¹―²–≤–Ψ ―¹–Ψ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ ―É―¹―²–Α–≤–Ψ–Φ –Η ―¹–≤–Ψ–Η–Φ ―²–Α–Ι–Ϋ―΄–Φ ―è–Ζ―΄–Κ–Ψ–Φ βÄî ―²–Ψ–Ι ―¹–Α–Φ–Ψ–Ι ―³–Β–Ϋ–Β–Ι. –û–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ, –Κ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―É –¥–≤–Α–¥―Ü–Α―²–Ψ–≥–Ψ –≤–Β–Κ–Α, –Ψ―² –±―΄–≤―à–Β–≥–Ψ ―É–Κ–Μ–Α–¥–Α –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η –Ψ―³–Β–Ϋ–Β–Ι –Ω–Ψ―΅―²–Η –Ϋ–Η―΅–Β–≥–Ψ –Ϋ–Β –Ψ―¹―²–Α–Μ–Ψ―¹―¨. –Δ–Β–Ω–Β―Ä―¨ –Κ–Ψ―Ä–Ψ–±–Β–Ι–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ –Φ–Ψ–≥ ―¹―²–Α―²―¨ –Ω―Ä–Α–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η –Μ―é–±–Ψ–Ι.
–Δ―Ä–Ψ―³–Η–Φ –£–Α―¹–Η–Μ―¨–Β–≤–Η―΅ ―²–Ψ―Ä–≥–Ψ–≤–Α–Μ ―à–≤–Β–Ι–Ϋ―΄–Φ–Η –Φ–Α―à–Η–Ϋ–Κ–Α–Φ–Η –Ζ–Ϋ–Α–Φ–Β–Ϋ–Η―²–Ψ–Ι –Φ–Α―Ä–Κ–Η ¬Ϊ–½–Η–Ϋ–≥–Β―Ä¬Μ. –™–Ψ–≤–Ψ―Ä―è―², –Φ–Ψ–≥ –Ϋ–Ψ―¹–Η―²―¨ –Ϋ–Α ―¹–Β–±–Β –¥–Ψ ―²―Ä–Β―Ö ―²–Α–Κ–Η―Ö –Φ–Α―à–Η–Ϋ–Ψ–Κ ―¹―Ä–Α–Ζ―É. –ü–Ψ–¥–≤–Β―à–Η–≤–Α–Μ, –Η –≥–¥–Β –Ω–Β―à–Κ–Ψ–Φ, –≥–¥–Β –Ϋ–Α ―²–Β–Μ–Β–≥–Β –Ψ―²–Ω―Ä–Α–≤–Μ―è–Μ―¹―è –Ω–Ψ –¥–Β―Ä–Β–≤–Ϋ―è–Φ. –Γ –Θ–Κ―Ä–Α–Η–Ϋ―΄ –¥–Ψ –Γ–Η–±–Η―Ä–Η –Ψ–¥–Ϋ–Α–Ε–¥―΄ –¥–Ψ–±―Ä–Α–Μ―¹―è!
–ö–Ψ–≥–¥–Α –ü–Ψ–Μ–Η–Ϋ–Α –Ϋ–Β–Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–¥―Ä–Ψ―¹–Μ–Α, –Ψ–Ϋ –Ψ―¹―²–Α–≤–Μ―è–Μ –¥–Ψ―΅–Κ–Β –Ψ–¥–Ϋ―É –Η–Ζ ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö ―à–≤–Β–Ι–Ϋ―΄―Ö –Φ–Α―à–Η–Ϋ, ―΅―²–Ψ –¥–Α–≤–Α–Μ–Η –Β–Φ―É –Ω–Ψ–¥ ―Ä–Β–Α–Μ–Η–Ζ–Α―Ü–Η―é. –Γ–Ψ ―¹–≤–Β―Ä―¹―²–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ–Η ―Ö―Ä–Ψ–Φ–Β–Ϋ―¨–Κ–Α―è –ü–Ψ–Μ–Η–Ϋ–Α –Η–≥―Ä–Α―²―¨ –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥–Μ–Α, –¥–Β―²―¹–Κ–Η–Β ―Ä–Α–Ζ–≤–Μ–Β―΅–Β–Ϋ–Η―è –±―΄–Μ–Η –Ϋ–Β –¥–Μ―è –Ϋ–Β–Β, –Η –≤―¹–Β ―¹–≤–Ψ–Β ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Β –Ψ―² –¥–Ψ–Φ–Α―à–Ϋ–Η―Ö –¥–Β–Μ –≤―Ä–Β–Φ―è, –Ψ–Ϋ–Α –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Η–Μ–Α ―É ―ç―²–Ψ–≥–Ψ ―΅―É–¥–Α ―²–Β―Ö–Ϋ–Η–Κ–Η. –®–Η―²―¨ –Ϋ–Α―É―΅–Η–Μ–Α―¹―¨ –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –±―΄―¹―²―Ä–Ψ. –†–Α–Ζ–±–Η―Ä–Α―²―¨ –Η ―¹–Ψ–±–Η―Ä–Α―²―¨ –Φ–Α―à–Η–Ϋ–Κ―É, –Κ–Α–Κ –Ϋ–Η–Κ―²–Ψ.
–û–¥–Ϋ–Α–Ε–¥―΄ –≤ –¥–Ψ–Φ –Κ –Δ―Ä–Ψ―³–Η–Φ―É –£–Α―¹–Η–Μ―¨–Β–≤–Η―΅―É –Ω–Ψ–Ε–Α–Μ–Ψ–≤–Α–Μ –Ψ―³–Η―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Η―²–Β–Μ―¨ βÄî ―²–Ψ –Μ–Η –Ψ―²–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Η―è ―³–Η―Ä–Φ―΄ ¬Ϊ–½–Η–Ϋ–≥–Β―Ä–Α¬Μ, ―²–Ψ –Μ–Η –ü–Ψ–¥–Ψ–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Α–≤–Ψ–¥–Α, –≥–¥–Β –≤ –†–Ψ―¹―¹–Η–Η –≤―΄–Ω―É―¹–Κ–Α–Μ–Η―¹―¨ ―ç―²–Η –Φ–Α―à–Η–Ϋ–Κ–Η, ―²–Β–Ω–Β―Ä―¨ –Ζ–Α –¥–Α–≤–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é –Μ–Β―² ―ç―²–Ψ–≥–Ψ ―É–Ε–Β –Ϋ–Β ―É–Ζ–Ϋ–Α–Β―à―¨. –Δ―Ä–Ψ―³–Η–Φ ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ –≥–Ψ―¹―²―é –Ψ ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –Φ–Α―Ä―à―Ä―É―²–Α―Ö, –Κ–Α–Κ –±–Β―Ä―É―² –Φ–Α―à–Η–Ϋ–Κ–Η –≤ –¥–Β―Ä–Β–≤–Ϋ―è―Ö, –≥–¥–Β –Ψ–Ϋ–Η –Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ―É―é―²―¹―è ―¹–Ω―Ä–Ψ―¹–Ψ–Φ, –Ϋ–Α ―΅―²–Ψ –Ε–Α–Μ―É―é―²―¹―è –≤–Μ–Α–¥–Β–Μ―¨―Ü―΄. –½–Α―²–Β–Φ –Ω–Ψ–≤–Β–Μ –¥–Ψ―΅–Κ–Ψ–Ι –Ω–Ψ―Ö–≤–Α―¹―²–Α―²―¨―¹―è. –®–Η–Μ–Α –Ψ–Ϋ–Α –Κ ―²–Ψ–Φ―É –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η –Ω―Ä–Β–Κ―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ, –Ψ–±―à–Η–≤–Α–Μ–Α –Η ―¹–Β–Φ―¨―é, –Η ―¹–Ψ―¹–Β–¥–Β–Ι.
–™–Ψ―¹―²―¨ –Ω–Ψ–≥–Μ–Α–¥–Η–Μ –¥–Β–≤–Ψ―΅–Κ―É –Ω–Ψ –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤–Β, –Ω–Ψ―Ö–≤–Α–Μ–Η–Μ ―¹―à–Η―²―΄–Β –≤–Β―â–Η, ―É–≥–Ψ―¹―²–Η–Μ –Ω―Ä―è–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ –Η, ―É–Ε–Β ―¹–Ψ–±–Η―Ä–Α―è―¹―¨ ―É―Ö–Ψ–¥–Η―²―¨, –Ω–Ψ–Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Ψ–≤–Α–Μ―¹―è:
βÄî –ù―É, –Κ–Α–Κ ―²–Β–±–Β –¥–Β–≤–Ψ―΅–Κ–Α? –ù―Ä–Α–≤–Η―²―¹―è –Ϋ–Α―à–Α ―à–≤–Β–Ι–Ϋ–Α―è –Φ–Α―à–Η–Ϋ–Α?
βÄî –ù―Ä–Α–≤–Η―²―¹―è, –¥―è–¥–Β–Ϋ―¨–Κ–Α, βÄî ―¹–Β―Ä―¨–Β–Ζ–Ϋ–Ψ –Ψ―²–≤–Β―²–Η–Μ–Α –¥–Β–≤–Ψ―΅–Κ–Α.βÄî –Δ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Β―¹–Μ–Η –≤–Ψ―² –Ζ–¥–Β―¹―¨ –Ϋ–Β ―²–Α–Κ ―¹–¥–Β–Μ–Α―²―¨, –Α –≤–Ψ―² ―ç–¥–Α–Κ, ―¹―²–Α–Ϋ–Β―² ―É–¥–Ψ–±–Ϋ–Β–Β.
–™–Ψ―¹―²―¨ ―É–¥–Η–≤–Η–Μ―¹―è –Η ―¹―²–Α–Μ ―Ä–Α―¹―¹–Ω―Ä–Α―à–Η–≤–Α―²―¨, ―΅―²–Ψ –Η–Φ–Β–Β―² –≤–≤–Η–¥―É –¥–Β–≤–Ψ―΅–Κ–Α, –Ζ–Α―²–Β–Φ –Ω–Ψ–Κ–Α―΅–Α–Μ –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤–Ψ–Ι, –Ω–Ψ–±–Μ–Α–≥–Ψ–¥–Α―Ä–Η–Μ ―Ö–Ψ–Ζ―è–Η–Ϋ–Α –Ζ–Α –Ω―Ä–Η–Β–Φ –Η ―É–Β―Ö–Α–Μ. –ê ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Φ–Β―¹―è―Ü–Β–≤ –≤–Β―Ä–Ϋ―É–Μ―¹―è ―¹ –Ϋ–Ψ–≤–Β–Ϋ―¨–Κ–Ψ–Ι –Φ–Α―à–Η–Ϋ–Κ–Ψ–Ι βÄî –Η–Φ–Ω–Ψ―Ä―²–Ϋ–Ψ–Ι! βÄî –Η –Ω–Ψ–¥–Α―Ä–Η–Μ –Β–Β –ü–Ψ–Μ–Η–Ϋ–Β.
βÄî –≠―²–Ψ –Φ–Ϋ–Β –Ψ―² –Κ–Ψ–≥–Ψ? βÄî ―¹ ―¹–Η―è―é―â–Η–Φ–Η –Ψ―² ―¹―΅–Α―¹―²―¨―è –≥–Μ–Α–Ζ–Α–Φ–Η, –Ω–Ψ–Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Ψ–≤–Α–Μ–Α―¹―¨ –¥–Β–≤–Ψ―΅–Κ–Α.
βÄî –≠―²–Ψ ―²–Β–±–Β ―¹–Α–Φ –½–Η–Ϋ–≥–Β―Ä –Ω–Ψ–¥–Α―Ä–Η–Μ, βÄî –Ω–Ψ―à―É―²–Η–Μ –≥–Ψ―¹―²―¨. βÄî –ê ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ ―²–Β–±–Β –Φ–Β―à–Α–Μ–Ψ, –Φ―΄ –Η―¹–Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ–Η.
–Δ–Α–Κ –¥–Α–≤–Ϋ–Ψ ―É–Φ–Β―Ä―à–Η–Ι –Β–≤―Ä–Β–Ι –‰―¹–Α–Α–Κ –€–Β―Ä–Η―² –½–Η–Ϋ–≥–Β―Ä, –Η–Ζ–Ψ–±―Ä–Β―²–Α―²–Β–Μ―¨ ―à–≤–Β–Ι–Ϋ–Ψ–Ι –Φ–Α―à–Η–Ϋ–Κ–Η –Η –Ϋ–Β –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨-―²–Ψ –Ω―Ä–Η–Μ–Η―΅–Ϋ―΄–Ι, –Ω–Ψ –Ψ―²–Ζ―΄–≤–Α–Φ ―¹–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤, ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ ―¹―²–Α–Μ –Κ―É–Φ–Η―Ä–Ψ–Φ –ü–Ψ–Μ–Η–Ϋ―΄. –ù–Α –≤―¹―é –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨.
–£–Β―â–Η –¥–Ψ―Ä–Ψ–Ε–Β ―ç―²–Ψ–Ι –Φ–Α―à–Η–Ϋ–Κ–Η, ―É –Ϋ–Β–Β –Ϋ–Η–Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ. –Γ –Ϋ–Β–Ι –Ψ–Ϋ–Α ―É–Β―Ö–Α–Μ–Α –≤ ―à–Β―¹―²–Ϋ–Α–¥―Ü–Α―²―¨ –Μ–Β―² –Η–Ζ –¥–Ψ–Φ–Α –Ϋ–Α –ö―É–±–Α–Ϋ―¨. –®–Η–Μ–Α ―²–Α–Φ –≤–Β―΅–Β―Ä–Α–Φ–Η, –Ω–Ψ–¥―Ä–Α–±–Α―²―΄–≤–Α―è –Ϋ–Α –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨ –¥–Α –Ψ–±―à–Η–≤–Α―è ―Ä–Ψ–¥―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –¥–Α ―¹–Ψ―¹–Β–¥–Β–Ι.
–£ ―¹–Β―Ä–Β–¥–Η–Ϋ–Β 20-―Ö –Ω–Ψ ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ–Κ–Α―²–Η–Μ–Α―¹―¨ –Κ–Α–Φ–Ω–Α–Ϋ–Η―è –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤ –Η–Ϋ–Ψ―¹―²―Ä–Α–Ϋ―â–Η–Ϋ―΄, –Η –Ϋ–Α –Κ–Ψ–Φ―¹–Ψ–Φ–Ψ–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–Φ ―¹–Ψ–±―Ä–Α–Ϋ–Η–Η –Κ―²–Ψ-―²–Ψ –Η–Ζ ―²–Β―Ö, –Κ–Ψ–Φ―É –Ψ–Ϋ–Α –Η ―à–Η–Μ–Α –≤–Β―â–Η, –≤―¹―²–Α–Μ –Η –Ψ–±–≤–Η–Ϋ–Η–Μ –ü–Ψ–Μ–Η–Ϋ―É –≤ –Ω–Ψ–Κ–Μ–Ψ–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Η –Α–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Φ―É –Η–Φ–Ω–Β―Ä–Η–Α–Μ–Η–Ζ–Φ―É.
βÄî –û–Ϋ–Α ―à―¨–Β―² –Ϋ–Α ―à–≤–Β–Ι–Ϋ–Ψ–Ι –Φ–Α―à–Η–Ϋ–Β –Α–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Ψ–¥―¹―²–≤–Α!
–Δ―É―² –Ε–Β ―¹–Ψ–±―Ä–Α–Μ–Η ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β –Ζ–Α―¹–Β–¥–Α–Ϋ–Η–Β, –Ϋ–Α –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ –Ω―Ä–Η–Ϋ―è–Μ–Η―¹―¨ –Κ–Μ–Β–Ι–Φ–Η―²―¨ –Β–Β –Κ―É–Φ–Η―Ä–Α –½–Η–Ϋ–≥–Β―Ä–Α. –ö–Ψ–≥–¥–Α –¥–Α–Μ–Η ―¹–Μ–Ψ–≤–Ψ –ü–Ψ–Μ–Η–Ϋ–Β –¥–Μ―è –Ω–Ψ–Κ–Α―è–Ϋ–Η―è, –Ψ–Ϋ–Α –≤―¹―²–Α–Μ–Α –Η –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–Ϋ–Β―¹–Μ–Α –Ω–Μ–Α–Φ–Β–Ϋ–Ϋ―É―é ―Ä–Β―΅―¨ –≤ –Ζ–Α―â–Η―²―É ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ –Κ―É–Φ–Η―Ä–Α. –ê –Ζ–Α―²–Β–Φ ―¹–Ψ ―¹–Μ–Β–Ζ–Α–Φ–Η –Ϋ–Α –≥–Μ–Α–Ζ–Α―Ö, ―É―à–Μ–Α. –Γ–Ψ–±―Ä–Α–Ϋ–Η–Β –Ω–Ψ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η–Μ–Ψ –Ψ–±―ä―è–≤–Η―²―¨ –Κ–Ψ–Φ―¹–Ψ–Φ–Ψ–Μ–Κ–Β –ü–Β―Ä–Β–Ω–Β–Μ–Η―Ü–Β ―¹―²―Ä–Ψ–≥–Η–Ι –≤―΄–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä, –Α ―à–≤–Β–Ι–Ϋ―É―é –Φ–Α―à–Η–Ϋ―É –Κ–Ψ–Ϋ―³–Η―¹–Κ–Ψ–≤–Α―²―¨. –ù–Ψ –Ϋ–Α―à–Β–Μ―¹―è –Κ―²–Ψ-―²–Ψ, ―¹–Ψ–Ψ–±―â–Η–Μ. –ü–Ψ–Μ–Η–Ϋ–Α –¥–Ψ―¹―²–Α–Μ–Α –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Η–Β –¥–Β–Ϋ―¨–≥–Η βÄî –Ε–Η–Μ–Η –±–Β–¥–Ϋ–Ψ, –Κ–Α–Κ –Η –≤―¹–Β βÄî –Ζ–Α–Ϋ―è–Μ–Α ―É –Ψ–¥–Ϋ–Η―Ö ―¹–Ψ―¹–Β–¥–Β–Ι, ―É –¥―Ä―É–≥–Η―Ö. –‰ –Ψ―²–Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ–Α―¹―¨ –Ϋ–Α –±–Α–Ζ–Α―Ä. –ö―É–Ω–Η–Μ–Α –Ω–Ψ―Ö–Ψ–Ε―É―é βÄî –Ϋ–Α―à―É, ―Ä–Ψ―¹―¹–Η–Ι―¹–Κ―É―é. –Γ–Ϋ―è–Μ–Α –Ζ–Ϋ–Α―΅–Κ–Η ¬Ϊ–½–Η–Ϋ–≥–Β―Ä–Α¬Μ, –Ω―Ä–Η–Κ―Ä–Β–Ω–Η–Μ–Α –Κ –Ψ―²–Β―΅–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Φ–Α―à–Η–Ϋ–Κ–Β, –Α ―¹–≤–Ψ―é –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ω–Α–Μ–Α –≤–Ψ –¥–≤–Ψ―Ä–Β. –ù–Β ―¹–Η–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―Ä–Α–Ζ–±–Η―Ä–Α–≤―à–Η–Β―¹―è –≤ ―²–Β―Ö–Ϋ–Η–Κ–Β –Κ–Ψ–Φ―¹–Ψ–Φ–Ψ–Μ―¨―Ü―΄ –Κ–Ψ–Ϋ―³–Η―¹–Κ–Ψ–≤–Α–Μ–Η –Η –¥–Β–Φ–Ψ–Ϋ―¹―²―Ä–Α―²–Η–≤–Ϋ–Ψ ―É–Ϋ–Η―΅―²–Ψ–Ε–Η–Μ–Η –Ϋ–Η –≤ ―΅–Β–Φ –Ϋ–Β –Ω–Ψ–≤–Η–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―Ä–Ψ―¹―¹–Η–Ι―¹–Κ–Η–Ι –Α–Ϋ–Α–Μ–Ψ–≥. –Γ ―²–Β―Ö –Ω–Ψ―Ä, –ü–Ψ–Μ–Η–Ϋ–Α, ―É–Β–Ζ–Ε–Α―è –Κ―É–¥–Α-―²–Ψ –Ϋ–Α–¥–Ψ–Μ–≥–Ψ –Η–Ζ –¥–Ψ–Φ–Α, –≤―¹–Β–≥–¥–Α ―¹–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ–Α ―¹–Ψ ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –Φ–Α―à–Η–Ϋ–Κ–Η –Κ–Α–Κ–Η–Β-―²–Ψ –¥–Β―²–Α–Μ–Η βÄî –≤–Η–¥–Η–Φ–Ψ, ―²–Β ―¹–Α–Φ―΄–Β, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Β–Ι –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Η –¥–Ψ―Ä–Ψ–≥–Η –Κ–Α–Κ –Ω–Α–Φ―è―²―¨.
–€–Α―à–Η–Ϋ–Κ–Α, –Ω–Ψ–¥–Α―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è ¬Ϊ―¹–Α–Φ–Η–Φ –½–Η–Ϋ–≥–Β―Ä–Ψ–Φ¬Μ, –Η―¹–Ω―Ä–Α–≤–Ϋ–Ψ ―à–Η–Μ–Α ―²―Ä–Η–¥―Ü–Α―²―¨ ―¹ –Μ–Η―à–Ϋ–Η–Φ –Μ–Β―².
–ü–Ψ―¹–Μ–Β –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄ βÄî –≤ 1946 –≥–Ψ–¥―É ―É–Φ–Β―Ä –‰–≤–Α–Ϋ –·–Κ–Ψ–≤–Μ–Β–≤–Η―΅, –Φ―É–Ε –ü–Ψ–Μ–Η–Ϋ―΄. –û–Ϋ–Α –Ψ―¹―²–Α–Μ–Α―¹―¨ –Ψ–¥–Ϋ–Α ―¹ –¥–Β–≤―è―²–Η–Μ–Β―²–Ϋ–Β–Ι –¥–Ψ―΅–Β―Ä―¨―é. –û―²–Β―Ü ―¹ –Φ–Α―²–Β―Ä―¨―é, –±―Ä–Α―²―¨―è βÄî –≤ ―²–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –Ε–Η–Μ–Η –≤ –¥―Ä―É–≥–Ψ–Φ ―¹–Β–Μ–Β. –ë―΄–Μ–Ψ –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ ―²―è–Ε–Β–Μ–Ψ. –£–Ψ–Κ―Ä―É–≥ ―Ä–Α–Ζ―Ä―É―Ö–Α, –≥–Ψ–Μ–Ψ–¥ –Η –±–Β–¥–Ϋ–Ψ―¹―²―¨. –ö–Ψ–Β-–Κ–Α–Κ –Ω–Β―Ä–Β–Ζ–Η–Φ–Ψ–≤–Α–Μ–Η, –Ϋ–Ψ –Η ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Η–Ι –≥–Ψ–¥ –±―΄–Μ –Ϋ–Β –Μ―É―΅―à–Β. –ü–Ψ–Μ―É–Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ―΄–Β –Α―Ä–Φ―è–Ϋ―¹–Κ–Η–Β ―²–Ψ―Ä–≥–Ψ–≤―Ü―΄ –Ω―Ä–Β–¥–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ–Η –Β–Ι –Ψ―²–≤–Β–Ζ―²–Η –Η –Ω―Ä–Ψ–¥–Α―²―¨ –≤ –ê―¹―²―Ä–Α―Ö–Α–Ϋ–Η –Ω–Α―Ä―²–Η―é ―³―Ä―É–Κ―²–Ψ–≤. –û–Ϋ–Α ―¹–Ψ–≥–Μ–Α―¹–Η–Μ–Α―¹―¨. –Γ–Β–Μ–Α –≤ ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Ϋ―è–Κ, –Ζ–Α–≥―Ä―É–Ζ–Η–Μ–Η –Β–Ι ―è―â–Η–Κ–Η, –Η –Ψ―²–Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ–Α―¹―¨ –Ψ–Ϋ–Α ―²–Ψ―Ä–≥–Ψ–≤–Α―²―¨. –ù–Α –ê―¹―²―Ä–Α―Ö–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Φ –±–Α–Ζ–Α―Ä–Β –Β–Β –Η –≤–Ζ―è–Μ–Η. –½–Α ―¹–Ω–Β–Κ―É–Μ―è―Ü–Η―é. –ù–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Φ–Β―¹―è―Ü–Β–≤ –ü–Ψ–Μ–Η–Ϋ–Α –Ω―Ä–Ψ–≤–Β–Μ–Α –≤ ―²―é―Ä―¨–Φ–Β. –£–Β―Ä–Ϋ―É–Μ–Α―¹―¨ βÄî ―Ö―É–¥–Α―è, –Ψ―¹―É–Ϋ―É–≤―à–Α―è―¹―è, –≤ –Η–Ζ–±–Β βÄî ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –≤–Ψ–Ζ–¥―É―Ö. –£―¹―ë, ―΅―²–Ψ –±―΄–Μ–Ψ, ―Ä–Α–Ζ–≥―Ä–Α–±–Η–Μ–Η. –î–Α –Η –Ϋ–Β ―²–Α–Κ ―É–Ε –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –±―΄–Μ–Ψ, –Ϋ–Η―΅–Β–≥–Ψ –Ϋ–Β –Ε–Α–Μ―¨. –ö―Ä–Ψ–Φ–Β –Φ–Α―à–Η–Ϋ–Κ–Η –½–Η–Ϋ–≥–Β―Ä–Α. –ï–Β ―É–Κ―Ä–Α–Μ–Η ―²–Ψ–Ε–Β. –ü–Ψ–Μ–Η–Ϋ–Α –Ψ–Ω―É―¹―²–Η–Μ–Α―¹―¨ –Ϋ–Α –Ω–Ψ–Μ, ―¹–Β–Μ–Α, –Ω―Ä–Η―¹–Μ–Ψ–Ϋ–Η–≤―à–Η―¹―¨ –Κ –≥–Ψ–Μ–Ψ–Ι ―¹―²–Β–Ϋ–Β, –Η –Ζ–Α―Ä–Β–≤–Β–Μ–Α –≤ –≥–Ψ–Μ–Ψ―¹. –î–Ψ–Μ–≥–Ψ ―Ä–Β–≤–Β–Μ–Α. –ü–Ψ―²–Ψ–Φ –≤―¹–Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η–Μ–Α –Ω―Ä–Ψ –¥–Β―²–Α–Μ–Η, ―΅―²–Ψ –Ψ―²–±―΄–≤–Α–Μ–Η ―²―é―Ä–Β–Φ–Ϋ―΄–Ι ―¹―Ä–Ψ–Κ –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―¹ –Ϋ–Β–Ι, –¥–Ψ―¹―²–Α–Μ–Α –Η –¥–Ψ–Μ–≥–Ψ ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β–Μ–Α –Ϋ–Α ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ –Ψ―¹―²–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Ψ―² ―¹–Α–Φ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Α–¥–Ψ―¹―²–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ–±―΄―²–Η―è –Β–Β –¥–Β―²―¹―²–≤–Α.
–Γ–Ψ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Β–Φ –Ψ–Ϋ–Α –Ω―Ä–Η–Ψ–±―Ä–Β–Μ–Α –¥―Ä―É–≥―É―é –Φ–Α―à–Η–Ϋ–Κ―É. –ù–Β –Ζ–Ϋ–Α―é, –Κ–Α–Κ, –Ϋ–Ψ ―²–Β ―¹–Α–Φ―΄–Β –¥–Β―²–Α–Μ–Η ―É―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η–Μ–Α –Ϋ–Α –Ϋ–Β–Β. –ü–Ψ―²–Ψ–Φ –Ϋ–Α ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â―É―é, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―É―é –Κ―É–Ω–Η–Μ–Α ―É–Ε–Β –Ϋ–Α –Γ–Α―Ö–Α–Μ–Η–Ϋ–Β. –Δ–Α–Κ –Η –Ω―Ä–Ψ–Ε–Η–Μ–Α ―¹ –Ϋ–Η–Φ–Η –Ω–Ψ―΅―²–Η –¥–Ψ ―¹―²–Α –Μ–Β―². –£ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Η–Β –≥–Ψ–¥―΄ –Ψ–Ϋ–Α –Ω–Ψ―²–Β―Ä―è–Μ–Α –Ω–Α–Φ―è―²―¨, –Ϋ–Β ―É–Ζ–Ϋ–Α–≤–Α–Μ–Α –Ϋ–Η–Κ–Ψ–≥–Ψ. –ù–Ψ –¥–Ψ ―¹–Α–Φ–Ψ–Ι ―¹–Φ–Β―Ä―²–Η –±―΄–Μ–Α –Ϋ–Α –Ϋ–Ψ–≥–Α―Ö, ―΅―²–Ψ-―²–Ψ –¥–Β–Μ–Α–Μ–Α, ―¹―É–Β―²–Η–Μ–Α―¹―¨ βÄî ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Κ –Φ–Α―à–Η–Ϋ–Κ–Β ―É–Ε–Β –Ϋ–Β –Ω–Ψ–¥―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Α, –Ω–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ–Α, –Ϋ–Β –Ω–Ψ ―¹–Η–Μ–Α–Φ –Β–Ι. –ù–Ψ –Ψ–¥–Ϋ–Α–Ε–¥―΄ ―Ä–Α–Ζ–Ψ–±―Ä–Α–Μ–Α –Β–Β –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é, –Α –¥–Β―²–Α–Μ–Η ―É–Ϋ–Β―¹–Μ–Α –Η–Ζ –¥–Ψ–Φ–Α –Η ―¹–Ω―Ä―è―²–Α–Μ–Α. –ê –Ϋ–Α ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Η–Ι –¥–Β–Ϋ―¨ ―É–Φ–Β―Ä–Μ–Α. –ï–Ι –±―΄–Μ–Ψ –±–Β–Ζ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Β―¹―è―Ü–Α –¥–Β–≤―è–Ϋ–Ψ―¹―²–Ψ –≤–Ψ―¹–Β–Φ―¨.
–≠―²–Ψ –±―΄–Μ–Α –Φ–Ψ―è –±–Α–±―É―à–Κ–Α.
–£―Ä―è–¥ –Μ–Η –Ϋ–Β–Ω―É―²–Β–≤―΄–Ι –Α–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι –Β–≤―Ä–Β–Ι –Ω–Ψ –Η–Φ–Β–Ϋ–Η –‰―¹–Α–Α–Κ –€–Β―Ä–Η―² –Ω–Ψ–Ω–Α–Μ –≤ ―Ä–Α–Ι. –Ξ–Ψ―²―è –ë–Ψ–≥―É –≤–Η–¥–Ϋ–Β–Β. –€–Ϋ–Β –Ψ―²―΅–Β–≥–Ψ-―²–Ψ –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ ―Ö–Ψ―΅–Β―²―¹―è, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Φ–Ψ―è –±–Α–±―É―à–Κ–Α –≤―¹―²―Ä–Β―²–Η–Μ–Α –Β–≥–Ψ ―²–Α–Φ.
–ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä –Γ―²―Ä–Β–Μ–Κ–Ψ–≤
–Θ–ë–‰–Δ–§ –ù–ï–™–û–î–·–·
–û–¥–Ϋ–Α–Ε–¥―΄, –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Μ–Β―² ―²–Ψ–Φ―É –Ϋ–Α–Ζ–Α–¥, –Β―â–Β –Ω―Ä–Η –Γ–Ψ–≤–Β―²–Α―Ö, –¥–Ψ–≤–Β–Μ–Ψ―¹―¨ –Φ–Ϋ–Β ―¹–Μ―É–Ε–Η―²―¨ –Ϋ–Α –Ε–Β–Μ–Β–Ζ–Ϋ–Ψ–Ι –¥–Ψ―Ä–Ψ–≥–Β. –†–Α–±–Ψ―²–Α –±―΄–Μ–Α –Ω―Ä–Η–±―΄–Μ―¨–Ϋ–Α―è –Η –Ϋ–Β –Ω―΄–Μ―¨–Ϋ–Α―è βÄî ―¹–Ψ–Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Β –≥―Ä―É–Ζ–Ψ–≤ (–±–Β–Ζ –Φ–Α―²–Β―Ä–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –Ψ―²–≤–Β―²―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η), –≤ –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–Φ, –Ω―Ä–Ψ–¥―É–Κ―²–Ψ–≤ –Ω–Η―²–Α–Ϋ–Η―è. –î–≤–Α –Φ–Β―¹―è―Ü–Α βÄî –≤ –¥–Ψ―Ä–Ψ–≥–Β, –¥–≤–Α βÄî –¥–Ψ–Φ–Α, –Α –¥–Β–Ϋ―¨–≥–Η –Ω–Μ–Α―²―è―² –Ζ–Α –≤―¹–Β ―΅–Β―²―΄―Ä–Β. –ß–Β–Φ –Ϋ–Β ―¹–Η–Ϋ–Β–Κ―É―Ä–Α? –ù–Ψ ―²―É―² –Β―¹―²―¨ –Ψ–¥–Η–Ϋ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ―Ö βÄî –≤―¹–Β –Ζ–Α–≤–Η―¹–Η―² –Ψ―² –Ϋ–Α–Ω–Α―Ä–Ϋ–Η–Κ–Α, ―²―É―² ―É–Ε –Κ–Α–Κ –Κ–Α―Ä―²–Α –Μ―è–Ε–Β―² (–Ψ –Ω―¹–Η―Ö–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι –Ϋ–Β―¹–Ψ–≤–Φ–Β―¹―²–Η–Φ–Ψ―¹―²–Η ―²–Ψ–≥–¥–Α –Ζ–Ϋ–Α–Μ–Η –Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä–Ϋ–Ψ ―¹―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ, ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ψ ―¹–Β–Κ―¹–Β). –ù―Ä–Α–≤―΄ –≤ ―²–Α–Κ–Ψ–Φ –Κ–Ψ–Μ–Μ–Β–Κ―²–Η–≤–Β –±―΄–Μ–Η ―¹―²―Ä–Ψ–≥–Η–Β, ―΅―²–Ψ –≤ –Ω―Ä–Ψ―΅–Β–Φ –Ϋ–Β –Φ–Β―à–Α–Μ–Ψ –Ω–Ψ–≤–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ―É –Ω―¨―è–Ϋ―¹―²–≤―É, –Α –Κ–Ψ–Μ–Μ–Β–Κ―²–Η–≤ –±―΄–Μ ―΅–Β–Φ-―²–Ψ ―¹―Ä–Β–¥–Ϋ–Η–Φ –Φ–Β–Ε–¥―É –Η–Ϋ–Ψ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Μ–Β–≥–Η–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ –Η ―¹–Β―Ä–Ω–Β–Ϋ―²–Α―Ä–Η–Β–Φ. –€–Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―²―è–Ε–Β–Μ–Ψ –Η–Ζ-–Ζ–Α –Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Η―è, –Ϋ–Α―¹–Η–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Η–≤–Η―²–Ψ–≥–Ψ ―É–≤–Α–Ε–Β–Ϋ–Η―è –Κ –≤–Ζ―Ä–Ψ―¹–Μ―΄–Φ –Η –Ω―Ä–Β–Ε–¥–Β–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι ―É―΅–Β–±―΄ –≤ –Η–Ϋ―¹―²–Η―²―É―²–Β. –Δ–Α–Κ ―΅―²–Ψ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨, ―΅―²–Ψ ―è –±―΄–Μ –Ϋ–Β –≥–Ψ―²–Ψ–≤ –Κ ―²–Α–Κ–Ψ–Ι –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η, –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―², –Ϋ–Β ―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨ –Ϋ–Η―΅–Β–≥–Ψ.
–ü–Β―Ä–≤―΄–Ι –Φ–Ψ–Ι –Ϋ–Α–Ω–Α―Ä–Ϋ–Η–Κ –±―΄–Μ ―¹―²–Α―Ä–Η―΅–Ψ–Κ ―²–Η―Ö–Η–Ι, –¥–Α–Ε–Β ―¹–Μ–Β–≥–Κ–Α –Ω―Ä–Η―à–Η–±–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι. –û–Ϋ –Ϋ–Β –Ω―΄―²–Α–Μ―¹―è –Ω–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Η―²―¨ –Φ–Β–Ϋ―è –≤ ¬Ϊ–Κ–Ψ–Μ–Ψ–Ϋ–Ϋ―É –Ω–Ψ –¥–≤–Α¬Μ, –Α –¥–Ψ―¹―²–Α–≤–Α–Μ ―²–Β–Φ, ―΅―²–Ψ ―É―²―Ä–Ψ–Φ –≤–Κ–Μ―é―΅–Α–Μ ―Ä–Α–¥–Η–Ψ βÄî –≥–Η–Φ–Ϋ –Γ–Γ–Γ–† (―ç―²–Ψ –≤ ―à–Β―¹―²―¨ ―΅–Α―¹–Ψ–≤ βÄî –¥–Μ―è ―²–Β―Ö, –Κ―²–Ψ –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η―²), –Α –Ϋ–Α –Ϋ–Ψ―΅―¨ –Ψ–±―΄―΅–Ϋ–Ψ ―¹–Μ―É―à–Α–Μ –Ϋ–Β–Κ―Ä–Ψ–Μ–Ψ–≥ –Ψ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Β–Φ –≤–Ψ–Ε–¥–Β, –Η―¹–Ω–Ψ–Μ–Ϋ―è–Β–Φ―΄–Ι –Ζ–Α–≥―Ä–Ψ–±–Ϋ―΄–Φ –≥–Ψ–Μ–Ψ―¹–Ψ–Φ –¦–Β–≤–Η―²–Α–Ϋ–Α, –Ζ–Α–Ω–Η―¹–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Ϋ–Α –Μ–Η―΅–Ϋ―΄–Ι –Φ–Α–≥–Ϋ–Η―²–Ψ―³–Ψ–Ϋ (―¹–Κ―Ä―΄―²―΄–Ι –Ω–Α―²―Ä–Η–Ψ―²-–Ϋ–Β–Κ―Ä–Ψ―³–Η–Μ?). –û–Ϋ –Ϋ–Α―É―΅–Η–Μ –Φ–Β–Ϋ―è –Κ―Ä–Α―¹―²―¨ –Η –Ω–Η―²―¨...
–Γ –Ϋ–Η–Φ ―è ―Ä–Α―¹―¹―²–Α–Μ―¹―è –±―΄―¹―²―Ä–Ψ –Η –±–Β–Ζ –Ψ―¹–Ψ–±–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ–Ε–Α–Μ–Β–Ϋ–Η―è.
–ü–Ψ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ―É –Ζ–Α–Ω–Ψ–Β–Φ ―è –Ϋ–Β –Ω–Η–Μ, –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨―¹―²–≤–Ψ –Ψ―Ü–Β–Ϋ–Η–Μ–Ψ ―ç―²–Ψ –Η –Ω–Ψ–≤―΄―¹–Η–Μ–Ψ –Φ–Β–Ϋ―è βÄî –≤–Φ–Β―¹―²–Ψ –≥–Ϋ―É―¹–Ϋ―΄―Ö –±–Α–Ϋ–Α–Ϋ–Ψ–≤ –Η ―Ä–Α–Ϋ–Ϋ–Β–Ι –Κ–Α–Ω―É―¹―²―΄ ―²–Β–Ω–Β―Ä―¨ –Ϋ–Α―à –±―Ä–Α–≤―΄–Ι ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε –≤–Ψ–Ζ–Η–Μ –Η―¹–Κ–Μ―é―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Κ–Ψ–Ϋ―¹–Β―Ä–≤―΄ ―¹ –î–Α–Μ―¨–Ϋ–Β–≥–Ψ –£–Ψ―¹―²–Ψ–Κ–Α. –Δ―É―² ―É–Ε–Β –±―΄–Μ–Ψ ―΅–Β–Φ –Ω–Ψ–Ε–Η–≤–Η―²―¨―¹―è, –Η –≤–Α―à –Ω–Ψ–Κ–Ψ―Ä–Ϋ―΄–Ι ―¹–Μ―É–≥–Α –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥ ―É–Ω―É―¹―²–Η―²―¨ ―ç―²–Ψ–≥–Ψ βÄî –Κ–Ψ –Φ–Ϋ–Β –¥–Ψ–Φ–Ψ–Ι ―¹―²–Α–Μ–Η –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η―²―¨ –Ω–Ψ―¹―΄–Μ–Κ–Η ―¹ –Κ―Ä–Α–±–Α–Φ–Η, –Κ―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–Ι ―Ä―΄–±–Ψ–Ι –Η –Ω―Ä–Ψ―΅–Η–Φ–Η –Η–Ζ–Μ–Η―à–Β―¹―²–≤–Α–Φ–Η. –£―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Φ–Ψ–Ι –Ϋ–Α–Ω–Α―Ä–Ϋ–Η–Κ –±―΄–Μ –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –Ϋ―É–¥–Ϋ―΄–Φ –Η –Ε–Β–Μ―²―΄–Φ. –Γ–Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Α ―è –¥―É–Φ–Α–Μ, ―΅―²–Ψ ―ç―²–Ψ ―è–Ζ–≤–Α, –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ―¹―è βÄî ―Ü–Η―Ä―Ä–Ψ–Ζ –Ω–Β―΅–Β–Ϋ–Η. –û–Ϋ –Ω–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Ϋ–Ψ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ –Ψ ―΅–Β―¹―²–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Η –Ψ–±―â–Β–Ι –¥–Ψ–±―Ä–Ψ–¥–Β―²–Β–Μ–Η, ―΅―²–Ψ, –≤–Ω―Ä–Ψ―΅–Β–Φ, –Ϋ–Β –Φ–Β―à–Α–Μ–Ψ –Β–Φ―É ―É–Ε–Η–Ϋ–Α―²―¨ ―²–Β–Φ, ―΅―²–Ψ ―è –Κ―Ä–Α–Μ –≤ –Ω–Ψ―Ä―²―É, –Η ―²―Ä–Β–±–Ψ–≤–Α―²―¨ ―¹–≤–Ψ―é –¥–Ψ–Μ―é –Ω–Ψ –Ω―Ä–Α–≤―É ―¹―²–Α―Ä―à–Β–≥–Ψ –≥―Ä―É–Ω–Ω―΄...
–Θ–Φ–Β―Ä –Ψ–Ϋ ―¹–≤–Ψ–Β–Ι ―¹–Φ–Β―Ä―²―¨―é, –¥–Ψ–Φ–Α.
–ü–Ψ―¹–Μ–Β –Ψ―΅–Β―Ä–Β–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–≤―΄―à–Β–Ϋ–Η―è (–≤–Ψ–Ζ–Η―²―¨ –Ψ―Ö–Μ–Α–Ε–¥–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –Φ―è―¹–Ψ βÄî ―ç―²–Ψ ―É–Ε–Β ―ç–Μ–Η―²–Α!), ―è –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Α–Ω–Α―Ä–Ϋ–Η–Κ–Α –Η –Κ–Ψ―à–Φ–Α―Ä―΄ –Ϋ–Α –≤―¹―é –Ψ―¹―²–Α–≤―à―É―é―¹―è –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨.
–≠―²–Ψ –±―΄–Μ ―²–Η–Ω–Η―΅–Ϋ―΄–Ι ―Ö―Ä–Ψ–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Ι –Α–Μ–Κ–Ψ–≥–Ψ–Μ–Η–Κ, –Ζ–Α ―¹–Ω–Η–Ϋ–Ψ–Ι –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Ϋ–Ψ –Φ–Α―è―΅–Η–Μ–Α ―³–Η–≥―É―Ä–Α ¬Ϊ–±–Β–Μ–Ψ–Ι –≥–Ψ―Ä―è―΅–Κ–Η¬Μ. –û–Ϋ ―¹ –Ϋ–Β–Ι –Ω―Ä–Ψ―¹―΄–Ω–Α–Μ―¹―è, –Ζ–Α―¹―΄–Ω–Α–Μ –Η –Ω–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Ϋ–Ψ ―Ä–Α–Ζ–≥–Ψ–≤–Α―Ä–Η–≤–Α–Μ. –Δ–Α–Κ ―΅―²–Ψ –Ϋ–Α―¹ –±―΄–Μ–Ψ ―²―Ä–Ψ–Β, –Η –Ω–Ψ–Ϋ―è―²―¨, –Κ –Κ–Ψ–Φ―É –°―Ä–Α –Ψ–±―Ä–Α―â–Α–Β―²―¹―è –≤ –¥–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Φ–Ψ–Φ–Β–Ϋ―², –±―΄–Μ–Ψ –¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―¹–Μ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ. –Θ―²―Ä–Ψ ―É –Ϋ–Α―¹ –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α–Μ–Ψ―¹―¨ ―¹ ―²–Ψ–≥–Ψ, ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ –Ω―΄―²–Α–Μ―¹―è –≤―΄―è―¹–Ϋ–Η―²―¨ ―É –Φ–Β–Ϋ―è, –Κ―²–Ψ ―è ―²–Α–Κ–Ψ–Ι –Η ―΅―²–Ψ ―è ―²―É―² –¥–Β–Μ–Α―é. –ï―¹–Μ–Η –Φ–Ϋ–Β ―É–¥–Α–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨ ―É–±–Β–¥–Η―²―¨ –Β–≥–Ψ, ―΅―²–Ψ ―è –Β–≥–Ψ –Φ–Α―²―¨ (–Κ ―²–Ψ–Φ―É –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η –¥–Α–≤–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ―΅–Η–≤―à–Α―è –≤ –±–Ψ–Ζ–Β), –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ ―¹―΅–Η―²–Α―²―¨, ―΅―²–Ψ –¥–Β–Ϋ―¨ ―É–¥–Α–Μ―¹―è, –Η ―è –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ –Ω–Β―Ä–Β–¥―΄―à–Κ―É –¥–Ψ ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Β–≥–Ψ ―É―²―Ä–Α. –ï―¹–Μ–Η –Ε–Β ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ–Η―¹―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ βÄî –Ϋ–Α―¹―²―É–Ω–Α–Μ–Η ―²―è–Ε–Β–Μ―΄–Β –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Α. ¬Ϊ–Δ―΄ βÄî –Φ–Β–Ϋ―², ―²―΄ –Ω―Ä–Η―à–Β–Μ –Φ–Β–Ϋ―è –≤―è–Ζ–Α―²―¨!!!¬Μ, βÄî ―Ä―΄―΅–Α–Μ–Α ¬Ϊ–±–Β–Μ–Α―è –≥–Ψ―Ä―è―΅–Κ–Α¬Μ, –Ω―΄―²–Α―è―¹―¨ ―É–¥–Α―Ä–Η―²―¨ –Φ–Β–Ϋ―è –Κ―É–Μ–Α–Κ–Ψ–Φ –≤ –Μ–Η―Ü–Ψ. –ü–Ψ–Μ―É―΅–Η–≤ –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―Ä–Α–Ζ –Ω–Ψ –Φ–Ψ―Ä–¥–Β, ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –Ϋ–Β–¥–Β–Μ―é ―è ―É–Ε–Β ―É–≤–Ψ―Ä–Α―΅–Η–≤–Α–Μ―¹―è –Ϋ–Β ―Ö―É–Ε–Β –ö–Α―¹―¹–Η―É―¹–Α –ö–Μ–Β―è. –°―Ä–Α –±―΄–Μ –Φ―É–Ε―΅–Η–Ϋ–Α –Κ―Ä―É–Ω–Ϋ―΄–Ι, –≤―΄―à–Β –Φ–Β–Ϋ―è –Η –≤ –Ω―Ä–Ψ―à–Μ–Ψ–Φ ―³―É―²–±–Ψ–Μ–Η―¹―², ―É–±–Β–Ε–Α―²―¨ –Φ–Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ –Ϋ–Β–Κ―É–¥–Α: –Ψ―¹―²–Α–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤–Ψ βÄî –≤―΄―Ä―É–±–Η―²―¨ –Β–≥–Ψ –±―΄―¹―²―Ä–Β–Β, ―΅–Β–Φ –Ψ–Ϋ –≤―΄―Ä―É–±–Η―² –Φ–Β–Ϋ―è. –Δ–Α–Κ―²–Η–Κ―É ―è –≤―΄–±―Ä–Α–Μ –Ω―Ä–Ψ―¹―²―É―é βÄî –Ω―Ä―΄–≥–Α–Μ –Ϋ–Α –≤–Β―Ä―Ö–Ϋ―é―é –Ω–Ψ–Μ–Κ―É –Η –±–Η–Μ –Β–≥–Ψ –Ϋ–Ψ–≥–Ψ–Ι –≤ –Μ–Η―Ü–Ψ. –û–±―΄―΅–Ϋ–Ψ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―É–¥–Α―Ä–Α ―Ö–≤–Α―²–Α–Μ–Ψ βÄî –Η –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Β–≥–Ψ –≤―è–Ζ–Α―²―¨ –Ω―Ä–Ψ―¹―²―΄–Ϋ―è–Φ–Η –Η –Ω–Ψ–Μ–Ψ―²–Β–Ϋ―Ü–Α–Φ–Η. –ß–Β―Ä–Β–Ζ –Φ–Β―¹―è―Ü ―¹–Ψ–≤–Φ–Β―¹―²–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–Β–Ζ–¥–Κ–Η ―è ―É–Ε–Β ―¹–Α–Φ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ –Ω―É―²–Α―²―¨―¹―è: –Κ―²–Ψ ―è –Ϋ–Α ―¹–Α–Φ–Ψ–Φ –¥–Β–Μ–Β βÄî –ê–Μ–Β–Κ―¹–Β–Ι –£–Ψ–Η–Ϋ–Ψ–≤, –°―Ä–Κ–Η–Ϋ–Α –Φ–Α―²―¨ βÄî –Ω–Ψ–Κ–Ψ–Ι–Ϋ–Η―Ü–Α –Η–Μ–Η ―¹–Α–Ϋ–Η―²–Α―Ä –Ω―¹–Η―Ö–±–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Η―Ü―΄? –Γ―²―Ä–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Φ―΄―¹–Μ–Η ―¹―²–Α–Μ–Η –Ω–Ψ―¹–Β―â–Α―²―¨ –Φ–Ψ―é –±–Β–¥–Ϋ―É―é –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤―É: ―¹–Μ―É―à–Α―è ―Ä–Α–Ζ–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―΄ –±―΄–≤–Α–Μ―΄―Ö –Κ–Ψ–Μ–Μ–Β–≥, ―è –Ζ–Ϋ–Α–Μ, ―΅―²–Ψ ―Ä–Β–≥―É–Μ―è―Ä–Ϋ–Ψ, ―²―Ä–Η-―΅–Β―²―΄―Ä–Β ―Ä–Α–Ζ–Α –≤ –≥–Ψ–¥, –≤ –¥–Β–Ω–Ψ –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η ―¹–Ψ–Ψ–±―â–Β–Ϋ–Η―è –Ψ ¬Ϊ–Μ–Β―²―É―΅–Η―Ö –≥–Ψ–Μ–Μ–Α–Ϋ–¥―Ü–Α―Ö¬Μ βÄî ―¹–Β–Κ―Ü–Η―è―Ö ―¹ ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Α–Φ–Η, –≤ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö –Ψ–¥–Η–Ϋ –Η–Μ–Η –Ψ–±–Α ―΅–Μ–Β–Ϋ–Α ―É–Φ–Β―Ä–Μ–Η –Ω―Ä–Η –Ζ–Α–≥–Α–¥–Ψ―΅–Ϋ―΄―Ö –Ψ–±―¹―²–Ψ―è―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Α―Ö, –Ω–Ψ–≤―Ä–Β–¥–Η–Μ–Η―¹―¨ –Ω―¹–Η―Ö–Η―΅–Β―¹–Κ–Η, –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Α―è –Ω―Ä–Η ―ç―²–Ψ–Φ ―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α―²―¨ –Ζ–Α–¥–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Κ―É―Ä―¹–Ψ–Φ (―à–Η―Ä–Ψ–Κ–Α –±―΄–Μ–Α ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Α ―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Α―è)... –†–Α–Ϋ―¨―à–Β ―è ―¹―΅–Η―²–Α–Μ ―ç―²–Ψ –±–Α–Ι–Κ–Α–Φ–Η, –Α ―²–Β–Ω–Β―Ä―¨ ―¹–Α–Φ –±―΄–Μ –≥–Ψ―²–Ψ–≤ –Ω–Ψ–≤–Β―Ä–Η―²―¨ –≤–Ψ –≤―¹–Β. –ù―É–Ε–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ ―¹―Ä–Ψ―΅–Ϋ–Ψ ―΅―²–Ψ-―²–Ψ –¥–Β–Μ–Α―²―¨, –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ ―¹–±–Β–Ε–Α―²―¨ –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Μ―è–Μ–Α –≥–Ψ―Ä–¥–Ψ―¹―²―¨, –Β―Ö–Α―²―¨ –¥–Α–Μ―¨―à–Β –≤ ―²–Α–Κ–Ψ–Φ ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Η–Η βÄî –≤–Β―Ä–Ϋ―΄–Ι ―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–± –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η―²―¨ –Φ–Β―¹―²–Ψ –≤ –¥―É―Ä–¥–Ψ–Φ–Β –≤ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Α–Μ–Α―²–Β ―¹ –Ϋ–Α–Ω–Α―Ä–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ.
–Γ–Β–Φ―è ―É–Ω–Α–Μ–Ψ –Ϋ–Α –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―É―é –Ω–Ψ―΅–≤―É, –Η –î―¨―è–≤–Ψ–Μ –≤―¹–Β ―¹–Η–Μ―¨–Ϋ–Β–Β ―¹―²–Α–Μ –Η―¹–Κ―É―à–Α―²―¨ –Φ–Β–Ϋ―è. –£ –Ϋ–Ψ―Ä–Φ–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η ―è βÄî ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ ―¹–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Ι–Ϋ―΄–Ι –Η –Ψ–±―â–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι, –Ϋ–Ψ ―²―É―² –±–Ψ–Μ–Β–Ζ–Ϋ―¨ –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Α―¹―¨ –Ζ–Α―Ä–Α–Ζ–Ϋ–Ψ–Ι, –Α ―¹–Ω―Ä–Ψ―¹–Η―²―¨ ¬Ϊ―΅―²–Ψ ―²–Α–Κ–Ψ–Β ―à–Η–Ζ–Ψ―³―Ä–Β–Ϋ–Η―è?¬Μ –±―΄–Μ–Ψ –Ϋ–Β ―É –Κ–Ψ–≥–Ψ.
¬Ϊ–û–Ϋ ―É–±―¨–Β―² ―²–Β–±―è, –Ψ–Ϋ ―¹–Η–Μ―¨–Ϋ–Β–Β, βÄî –Ϋ–Α―¹―²–Ψ–Ι―΅–Η–≤–Ψ ―à–Β–Ω―²–Α–Μ –Φ–Ϋ–Β –î―¨―è–≤–Ψ–Μ, βÄî ―¹–¥–Β–Μ–Α–Ι ―ç―²–Ψ –Ω–Β―Ä–≤―΄–Φ, ―¹―Ä–Α–Ζ―É –Μ–Β–≥―΅–Β ―¹―²–Α–Ϋ–Β―², –≤–Ψ―² ―É–≤–Η–¥–Η―à―¨...¬Μ.
–ü―Ä–Η–≤―΄―΅–Κ–Η –Ϋ–Α–Ω–Α―Ä–Ϋ–Η–Κ–Α ―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Η –Ζ–Α–¥―É–Φ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ―É: ―É―²―Ä–Ψ–Φ –Ψ–Ϋ –Η–Φ–Β–Μ –Ω―Ä–Η–≤―΄―΅–Κ―É ―¹–Ω―Ä–Α–≤–Μ―è―²―¨ –Φ–Α–Μ―É―é –Ϋ―É–Ε–¥―É, –Ψ―²–Κ―Ä―΄–≤ –¥–≤–Β―Ä–Η –≤–Α–≥–Ψ–Ϋ–Α. –¦–Β–≥–Κ–Η–Ι ―²–Ψ–Μ―΅–Ψ–Κ –≤ –Ζ–Α–¥ βÄî –Η –Β–≥–Ψ –Φ–Ψ–Ζ–≥–Η ―Ä–Α―¹–Ω–Μ―΄–≤―É―²―¹―è –≥―Ä―è–Ζ–Ϋ―΄–Φ –Ω―è―²–Ϋ–Ψ–Φ –Ϋ–Α –±–Μ–Η–Ε–Α–Ι―à–Β–Φ ―¹―²–Ψ–Μ–±–Β.
¬Ϊ–ß–Η―¹―²–Ψ–Β ―É–±–Η–Ι―¹―²–≤–Ψ, –Ϋ–Η–Κ–Α–Κ–Η―Ö ―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤, –≤―¹–Β–≥–Ψ –Ψ–¥–Η–Ϋ ―²–Ψ–Μ―΅–Ψ–Κ βÄî –Η ―²―΄ ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–¥–Β–Ϋ, –Ϋ―É –Ε–Β, ―Ä–Β―à–Α–Ι―¹―è... –ù–Α ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Β–Ι ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η–Η –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ –Ζ–Α―è–≤–Η―à―¨, ―΅―²–Ψ –Ω―Ä–Ψ―¹–Ϋ―É–Μ―¹―è, –Α –Β–≥–Ψ βÄî –Ϋ–Β―²... –≤–Β–¥―¨ –Ψ–Ϋ –Η ―¹–Α–Φ –Φ–Ψ–≥ –≤―΄–Ω–Α―¹―²―¨¬Μ, βÄî –Ϋ–Β ―É–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ―¹―è –î―¨―è–≤–Ψ–Μ.
–€–Ψ–Β –±–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β –≤–Ψ–Ψ–±―Ä–Α–Ε–Β–Ϋ–Η–Β ―Ä–Η―¹–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ –Φ–Ϋ–Β ―¹–Μ–Α–¥–Ψ―¹―²–Ϋ―΄–Β –Κ–Α―Ä―²–Η–Ϋ―΄: –Ω―΄―à–Ϋ―΄–Β –Ω–Ψ―Ö–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄ –Ϋ–Α–Ω–Α―Ä–Ϋ–Η–Κ–Α ―¹ –Φ–Ψ–Η–Φ –Ϋ–Β–Ω–Ψ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ ―É―΅–Α―¹―²–Η–Β–Φ, –Ζ–Α–Φ–Β―²–Κ–Α –≤ –¥–Β–Ω–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–Ι –≥–Α–Ζ–Β―²–Β ¬Ϊ–£–Ω–Β―Ä–Β–¥!¬Μ: ¬ΪβÄΠ–Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Ϋ–Β–¥–Ψ–Μ–≥–Ψ–Ι –Ω–Α–Ϋ–Η―Ö–Η–¥―΄ ―²–Β–Μ–Ψ –Ω–Ψ–Κ–Ψ–Ι–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Ω―Ä–Β–¥–Α–Ϋ–Ψ –Ζ–Β–Φ–Μ–Β¬Μ, –Η –Η―¹–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β –Φ–Ϋ–Ψ–Ι –Κ―Ä–Α–Κ–Ψ–≤―è–Κ–Α –≤–Ω―Ä–Η―¹―è–¥–Κ―É –Ϋ–Α ―¹–≤–Β–Ε–Β–Ι –Φ–Ψ–≥–Η–Μ–Β.
–ù–Ψ, –≤–Η–¥–Η–Φ–Ψ, ―è –Β―â–Β –Ϋ–Β –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―¹–Ψ―à–Β–Μ ―¹ ―É–Φ–Α, –Η –Κ–Α–Κ–Α―è-―²–Ψ ―΅–Α―¹―²―¨ –Φ–Β–Ϋ―è ―É–Ω–Ψ―Ä–Ϋ–Ψ ―¹–Ψ–Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Μ―è–Μ–Α―¹―¨ ―É–Ε–Β ―΅–Β―²–Κ–Ψ ―¹―³–Ψ―Ä–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–≤―à–Β–Φ―É―¹―è –Ω–Μ–Α–Ϋ―É. –ù–Β―², ―è –Ϋ–Β –±–Ψ―è–Μ―¹―è ―¹–¥–Β–Μ–Α―²―¨ ―ç―²–Ψ. –· –±–Ψ―è–Μ―¹―è –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ: ―΅―²–Ψ ―ç―²–Α ―²–≤–Α―Ä―¨ –≤―΄–Ε–Η–≤–Β―² βÄî –Η ―²–Ψ–≥–¥–Α –Φ–Ϋ–Β –Κ–Ψ–Ϋ–Β―Ü.
¬Ϊ–Δ–Ψ–Μ–Κ–Ϋ–Η –Β–≥–Ψ –Ϋ–Α –Φ–Ψ―¹―²―É βÄî ―¹―²–Ψ–Ω―Ä–Ψ―Ü–Β–Ϋ―²–Ϋ–Α―è –≥–Α―Ä–Α–Ϋ―²–Η―è¬Μ, βÄî –Ϋ–Β ―É–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ―¹―è –Ϋ–Β―΅–Η―¹―²―΄–Ι...
–ù–Ψ ―è ―É–Ε–Β –Ω―Ä–Η–Ϋ―è–Μ ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η–Β βÄî –Ϋ–Α ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Β–Ι ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η–Η –¥–Α–Μ ―²–Β–Μ–Β–≥―Ä–Α–Φ–Φ―É –≤ –¥–Β–Ω–Ψ –Η, ―¹–Ψ―¹–Μ–Α–≤―à–Η―¹―¨ –Ϋ–Α –±–Ψ–Μ–Β–Ζ–Ϋ―¨ (–Α ―Ä–Α–Ζ–≤–Β –Ϋ–Β―²?), –≤―΄–Ζ–≤–Α–Μ ―¹–Φ–Β–Ϋ―É. –ë–Ψ–Μ―¨―à–Β ―è ―¹ –°―Ä–Ψ–Ι –Ϋ–Β –Β–Ζ–¥–Η–Μ –Η, –Ψ―² –≥―Ä–Β―Ö–Α –Ω–Ψ–¥–Α–Μ―¨―à–Β, –≤―¹–Κ–Ψ―Ä–Β –Η –≤–Ψ–≤―¹–Β ―Ä–Α―¹―¹―΅–Η―²–Α–Μ―¹―è...
–ù–Η ―¹ ―΅–Β–Φ –Ϋ–Β―¹―Ä–Α–≤–Ϋ–Η–Φ–Α ―¹–Μ–Α–¥–Ψ―¹―²―¨ –±–Β–Ζ–Ϋ–Α–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―É–±–Η–Ι―¹―²–≤–Α, –Ϋ–Ψ ―²―è–Ε–Β–Μ–Ψ ―É–±–Η―²―¨ –¥–Α–Ε–Β –Ϋ–Β–≥–Ψ–¥―è―è.