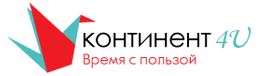–°–Ґ–Р–†–Ю–Х –§–Ю–Ґ–Ю –°–Х–Ь–Х–Щ–°–Ґ–Т–Р –†–Ю–Ь–Р–Э–Ю–Т–Ђ–•

–≠—В–Њ –±—Г–і–µ—В –µ—Й–µ –Њ–і–Є–љ —В–µ–Ї—Б—В –Њ 1913-–Љ, –Њ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–µ–Љ –≥–Њ–і–µ –њ–µ—А–µ–і —В–µ–Љ, –Ї–∞–Ї –≤—Б—С –Ї–Њ–љ—З–Є–ї–Њ—Б—М –Є –љ–∞—З–∞–ї–Њ—Б—М —Б–Њ–≤—Б–µ–Љ –і—А—Г–≥–Њ–µ. –Т –Њ—В–ї–Є—З–Є–µ –Њ—В –Њ—Б—В–∞–ї—М–љ—Л—Е, –Њ–љ –±—Г–і–µ—В –≤–Њ –Љ–љ–Њ–≥–Њ–Љ —Б–Њ—Б—В–Њ—П—В—М –Є–Ј —Ж–Є—В–∞—В. –Я–ї—О—Б –њ–Њ–і –≤–Њ–њ—А–Њ—Б–Њ–Љ –Њ–Ї–∞–ґ–µ—В—Б—П —Б–∞–Љ–∞ (–њ–Њ—З—В–Є) –∞–Ї—Б–Є–Њ–Љ–∞ –Њ –Ї–Њ–љ—Ж–µ –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –Є –љ–∞—З–∞–ї–µ –і—А—Г–≥–Њ–≥–Њ –њ–Њ—Б–ї–µ 1 –∞–≤–≥—Г—Б—В–∞ 1914 –≥–Њ–і–∞.
1 –Є—О–ї—П 1913 –≥–Њ–і–∞ –§—А–∞–љ—Ж –Ъ–∞—Д–Ї–∞ –Ј–∞–њ–Є—Б—Л–≤–∞–µ—В –≤ –і–љ–µ–≤–љ–Є–Ї–µ: ¬Ђ–Ъ–∞—А—В–Є–љ–∞ –њ—А–∞–Ј–і–љ–Њ–≤–∞–љ–Є—П —В—А–µ—Е—Б–Њ—В–ї–µ—В–Є—П –†–Њ–Љ–∞–љ–Њ–≤—Л—Е –≤ –ѓ—А–Њ—Б–ї–∞–≤–ї–µ –љ–∞ –Т–Њ–ї–≥–µ. –¶–∞—А—М, —Ж–∞—А–µ–≤–љ—Л —Г–≥—А—О–Љ–Њ —Б—В–Њ—П—В –љ–∞ —Б–Њ–ї–љ—Ж–µ, –ї–Є—И—М –Њ–і–љ–∞ –Є–Ј –љ–Є—Е, —Е—А—Г–њ–Ї–∞—П, –љ–µ–Љ–Њ–ї–Њ–і–∞—П, –≤—П–ї–∞—П, –Њ–њ–Є—А–∞—О—Й–∞—П—Б—П –љ–∞ –Ј–Њ–љ—В–Є–Ї, —Б–Љ–Њ—В—А–Є—В –њ—А—П–Љ–Њ –њ–µ—А–µ–і —Б–Њ–±–Њ–є. –Э–∞—Б–ї–µ–і–љ–Є–Ї –њ—А–µ—Б—В–Њ–ї–∞ –љ–∞ —А—Г–Ї–∞—Е –Њ–≥—А–Њ–Љ–љ–Њ–≥–Њ, —Б –љ–µ–њ–Њ–Ї—А—Л—В–Њ–є –≥–Њ–ї–Њ–≤–Њ–є, –Ї–∞–Ј–∞–Ї–∞. –Э–∞ –і—А—Г–≥–Њ–є —Д–Њ—В–Њ–≥—А–∞—Д–Є–Є –і–∞–≤–љ–Њ –њ—А–Њ–µ—Е–∞–≤—И–Є–µ –Љ–Є–Љ–Њ –Љ—Г–ґ—З–Є–љ—Л –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞—О—В –Њ—В–і–∞–≤–∞—В—М —З–µ—Б—В—М¬ї. –Ф—Г–Љ–∞—О, –µ—Б–ї–Є –њ–Њ–≥—Г–≥–ї–Є—В—М, —Н—В–Є —Б–љ–Є–Љ–Ї–Є –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –љ–∞–є—В–Є –Є —Б–µ–є—З–∞—Б; –Ъ–∞—Д–Ї–∞ —П–≤–љ–Њ –Є–Ј—Г—З–∞–ї –Є—Е –≤ –Љ–µ—Б—В–љ–Њ–є –љ–µ–Љ–µ—Ж–Ї–Њ—П–Ј—Л—З–љ–Њ–є –≥–∞–Ј–µ—В–µ.
–Т —Н—В–Њ–є –Ј–∞–њ–Є—Б–Є –Љ–љ–Њ–≥–Њ–µ –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–љ–Њ; —Б–∞–Љ–Њ–µ –љ–µ–Є–љ—В–µ—А–µ—Б–љ–Њ–µ вАФ –≤–Є–і–µ—В—М –≤ –і–≤—Г—Е —Б–ї—Г—З–∞–є–љ—Л—Е —Б–љ–Є–Љ–Ї–∞—Е –љ–µ–Ї–Њ–µ –њ—А–Њ—А–Њ—З–µ—Б—В–≤–Њ –Ї —В–Њ–Љ—Г, —З—В–Њ —Б–ї—Г—З–Є–ї–Њ—Б—М —Б –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–љ—Л–Љ–Є —В–∞–Љ –ї—О–і—М–Љ–Є, —Б–Њ —Б—В—А–∞–љ–Њ–є, –≥–і–µ —Б–і–µ–ї–∞–љ—Л —Д–Њ—В–Њ–≥—А–∞—Д–Є–Є, —Б –і—А—Г–≥–Њ–є —Б—В—А–∞–љ–Њ–є, –≥–і–µ –Њ–љ–Є –љ–∞–њ–µ—З–∞—В–∞–љ—Л, —Б –ї—О–і—М–Љ–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ —З–Є—В–∞–ї–Є —Н—В—Г –≥–∞–Ј–µ—В—Г, —Б –Ї–Њ–љ—В–Є–љ–µ–љ—В–Њ–Љ –≤–Њ–Њ–±—Й–µ, –≥–і–µ –≤—Б–µ –≤—Л—И–µ–Њ–њ–Є—Б–∞–љ–љ–Њ–µ –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–і–Є—В, –љ–∞–Ї–Њ–љ–µ—Ж, —Б —Б–∞–Љ–Є–Љ –§—А–∞–љ—Ж–µ–Љ –Ъ–∞—Д–Ї–Њ–є. –Ь–Њ–ї, –Њ–і–љ–∞ —Ж–∞—А–µ–≤–љ–∞ –≤—П–ї–∞—П, –≤—Б—П —Б–µ–Љ—М—П —Б–Љ–Њ—В—А–Є—В —Г–љ—Л–ї–Њ, –∞ ¬Ђ–Љ—Г–ґ—З–Є–љ—Л¬ї, –њ—А–Њ–µ—Е–∞–≤—И–Є–µ –Љ–Є–Љ–Њ, –њ–Њ –Є–љ–µ—А—Ж–Є–Є –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞—О—В –Њ—В–і–∞–≤–∞—В—М —З–µ—Б—В—М. –Ю–≥—А–Њ–Љ–љ–Њ–µ –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–∞–µ—В –Є—Б–Ї—Г—И–µ–љ–Є–µ —Г–≤–Є–і–µ—В—М –Ј–і–µ—Б—М –і–∞–ґ–µ –љ–µ —Б–Є–Љ–≤–Њ–ї, –∞ –∞–ї–ї–µ–≥–Њ—А–Є—О –≥—А—П–і—Г—Й–µ–≥–Њ –≥–Њ—А—П вАФ —З–µ—Б—В—М –Њ—В–і–∞–≤–∞—В—М —Г–ґ–µ –љ–µ–Ї–Њ–Љ—Г. –Ш –њ—А–Є–њ–µ—А–µ—В—М –≤—Б–µ —А–∞—Б—Б—Г–ґ–і–µ–љ–Є–µ –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–Є—В–Њ–є —Д—А–∞–Ј–Њ–є –†–Њ–Ј–∞–љ–Њ–≤–∞ –Њ –†—Г—Б–Є, —Б–ї–Є–љ—П–≤—И–µ–є –Ј–∞ —В—А–Є –і–љ—П.
–Э–∞ —Б–∞–Љ–Њ–Љ –і–µ–ї–µ, –љ–Є—З–µ–≥–Њ –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞ —Н—В–Є—Е —Д–Њ—В–Њ –љ–µ—В. –Ф–Њ–ї–≥–Є–µ, —Г—В–Њ–Љ–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–µ, –њ—Л—И–љ—Л–µ –њ—А–∞–Ј–і–љ–Њ–≤–∞–љ–Є—П –≤ —Б–∞–Љ–Њ–Љ –ґ–∞—А–Ї–Њ–Љ –Љ–µ—Б—П—Ж–µ –ї–µ—В–∞ вАФ –Ї–∞–Ї —В—Г—В –љ–µ —Г—В–Њ–Љ–Є—В—М—Б—П, –љ–µ —Б–і–µ–ї–∞—В—М—Б—П –≤—П–ї—Л–Љ? –Ю–і–µ–≤–∞–ї–Є—Б—М —В–Њ–≥–і–∞ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ, –љ–µ —В–Њ —З—В–Њ —Б–µ–є—З–∞—Б; –Њ—В—В–Њ–≥–Њ, –і—Г–Љ–∞—О, —В–µ–њ–ї–Њ–≤—Л–µ —Г–і–∞—А—Л –±—Л–ї–Є –Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ —З–∞—Й–µ, —З–µ–Љ –љ—Л–љ—З–µ. –Ъ–∞–Ј–∞–Ї–Є (–Є–ї–Є –Њ—Д–Є—Ж–µ—А—Л? –љ–∞–і–Њ –≤—Б–µ-—В–∞–Ї–Є –љ–∞–є—В–Є —В–µ —Б–љ–Є–Љ–Ї–Є) –љ–µ–њ–Њ–љ—П—В–љ–Њ –Ї–Њ–Љ—Г –Њ—В–і–∞—О—В —З–µ—Б—В—М, —В–∞–Ї –Ї–∞–Ї –љ–µ—Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–∞—П —Д–Њ—В–Њ–≥—А–∞—Д–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П —В–µ—Е–љ–Є–Ї–∞ —В–Њ–≥–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є –µ—Й–µ –љ–µ –њ–Њ—Б–њ–µ–≤–∞–ї–∞ –Ј–∞ —В–Њ–≥–і–∞—И–љ–Є–Љ –љ–µ –Њ—З–µ–љ—М –±—Л—Б—В—А—Л–Љ –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є–µ–Љ –ґ–Є–Ј–љ–Є.
–Ъ–∞—Д–Ї—Г –Є–љ—В–µ—А–µ—Б—Г–µ—В –љ–µ —Н–Ї–Ј–Њ—В–Є–Ј–Љ –і–∞–ї–µ–Ї–Њ–є —Б—В—А–∞–љ—Л; –љ–∞–Њ–±–Њ—А–Њ—В, –Њ–љ –≤–Є–і–Є—В –≤ –љ–µ–є —З–∞—Б—В—М —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –Љ–Є—А–∞, —З–∞—Б—В—М –Х–≤—А–Њ–њ—Л; –≤ –µ–≥–Њ –Њ–њ–Є—Б–∞–љ–Є–Є –†–Њ–Љ–∞–љ–Њ–≤—Л –њ–Њ—Е–Њ–ґ–Є –љ–∞ –Њ–±—Л—З–љ—Г—О –Љ–µ—Й–∞–љ—Б–Ї—Г—О —Б–µ–Љ—М—О –љ–∞ –Њ—В–і—Л—Е–µ. –Я–Њ–ї–љ–Њ–µ —Б—Е–Њ–і—Б—В–≤–Њ –љ–µ –љ–∞—А—Г—И–∞–µ—В –і–∞–ґ–µ –љ–∞—Б–ї–µ–і–љ–Є–Ї –љ–∞ —А—Г–Ї–∞—Е –Њ–≥—А–Њ–Љ–љ–Њ–≥–Њ –Ї–∞–Ј–∞–Ї–∞ вАФ —В–Є–њ–Є—З–љ—Л–є —Ж–Є—А–Ї, –љ–µ –ґ–Є–Ј–љ—М. –Ф–ї—П –Ъ–∞—Д–Ї–Є —Ж–Є—А–Ї –±—Л–ї –Ї–Њ–љ—Ж–µ–љ—В—А–∞—Ж–Є–µ–є –Ј–ї–Њ–≤–µ—Й–µ–є —Б—В—А–∞–љ–љ–Њ—Б—В–Є –Њ–±—Л–і–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Љ–Є—А–∞; –Љ–µ—Б—В–Њ, –≥–і–µ –ї—О–і–Є –і–∞—О—В –≤–Њ–ї—О –Ї–∞–Ї —Б–≤–Њ–µ–є —И–Є–Ј–Њ—Д—А–µ–љ–Є–Є, —В–∞–Ї –Є –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ —Б–≤–Њ–µ–є –њ–∞—А–∞–љ–Њ–є–Є.
–Я–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–є —Б–±–Њ—А–љ–Є–Ї –µ–≥–Њ –њ—А–Њ–Ј—Л ¬Ђ–У–Њ–ї–Њ–і–∞—А—М¬ї (–Ъ–∞—Д–Ї–∞ —З–Є—В–∞–ї –Ї–Њ—А—А–µ–Ї—В—Г—А—Г –љ–µ–Ј–∞–і–Њ–ї–≥–Њ –і–Њ —Б–Љ–µ—А—В–Є) —Б–Њ—Б—В–Њ–Є—В –Є–Ј —З–µ—В—Л—А–µ—Е —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј–Њ–≤; –њ–µ—А–≤—Л–є –Є–Ј –љ–Є—Е вАФ –Њ —Ж–Є—А–Ї–Њ–≤–Њ–Љ –≥–Є–Љ–љ–∞—Б—В–µ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є —В–∞–Ї –ї—О–±–Є–ї —Б–≤–Њ–µ –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–Њ, —З—В–Њ –њ—А–Є–љ—П–ї—Б—П –ґ–Є—В—М –љ–∞–≤–µ—А—Е—Г, –љ–∞ —В—А–∞–њ–µ—Ж–Є–Є (—В—А–Є –і—А—Г–≥–Є—Е –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є вАФ –Њ –і–Њ–Љ–Њ—Е–Њ–Ј—П–є–Ї–µ, –Њ –Љ—Л—И–Є–љ–Њ–є –њ–µ–≤–Є—Ж–µ –Є –Њ–± –∞—А—В–Є—Б—В–µ-–≥–Њ–ї–Њ–і–∞—А–µ).–Ґ–∞–Ї —З—В–Њ —Ж–∞—А–µ–≤–Є—З –љ–∞ —А—Г–Ї–∞—Е –Ї–∞–Ј–∞–Ї–∞ вАФ –љ–µ –њ—А–Є—З—Г–і–∞ –њ–Њ–ї—Г–≤–∞—А–≤–∞—А—Б–Ї–Њ–є –і–Є–љ–∞—Б—В–Є–Є, –њ—А–∞–≤—П—Й–µ–є –≤ –≤–∞—А–≤–∞—А—Б–Ї–Њ–є —Б—В—А–∞–љ–µ, –∞ –Њ–±—А–∞–Ј –Љ–Є—А–∞, –Љ–µ—В–∞—Д–Њ—А–∞ —З—Г–і–Њ–≤–Є—Й–љ–Њ–є –µ–≥–Њ –љ–∞–і–µ–ґ–љ–Њ—Б—В–Є: —Б—В—А–∞—И–љ–Њ —Е—А—Г–њ–Ї–Є–є –њ–Њ–і—А–Њ—Б—В–Њ–Ї –њ–Њ–Ї–Њ–Є—В—Б—П –≤ —Г—Б—В—А–∞—И–∞—О—Й–µ –Љ–Њ—Й–љ—Л—Е —А—Г–Ї–∞—Е –Њ–±—Л—З–љ–Њ–≥–Њ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞. –І–Є—Б—В–Њ –Ї–∞—Д–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Є–є (–љ–µ ¬Ђ–Ї–∞—Д–Ї–Є–∞–љ—Б–Ї–Є–є¬ї!) –Њ–±—А–∞–Ј.
–Ш—В–∞–Ї, –Ї–∞–Ј–∞–Ї. –° –Њ–і–љ–Њ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л, —Б–ї—Г–ґ–Є–ї—Л–є —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї, –і–∞–ґ–µ –љ–µ —Б–Њ–ї–і–∞—В –Є–ї–Є —В–∞–Љ –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї, –∞ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В–µ–ї—М —Ж–µ–ї–Њ–≥–Њ —Б–ї—Г–ґ–Є–ї–Њ–≥–Њ —Б–Њ—Б–ї–Њ–≤–Є—П. –°–Њ—Б–ї–Њ–≤–Є—П, —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –≤–ї–∞—Б—В—М—О, —З—В–Њ–±—Л –Њ–љ–Њ –µ–є —Б–ї—Г–ґ–Є–ї–Њ вАФ –≤ –Њ–±–Љ–µ–љ –љ–∞ —Б—В—А–Њ–≥–Њ –Њ—В–Љ–µ—А–µ–љ–љ—Л–µ –≤–Њ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є. –°–ї—Г–ґ–Є–ї—Л–є –њ–Њ —Д–∞–Ї—В—Г —А–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П, –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ, –Њ–±—А–µ—З–µ–љ–љ—Л–є –љ–∞ —Б–ї—Г–ґ–±—Г, –њ—А–Є–≥–Њ–≤–Њ—А–µ–љ–љ—Л–є –Ї –љ–µ–є. –≠—В–∞ –Є–і–µ—П –Ъ–∞—Д–Ї–µ –њ–Њ–љ—А–∞–≤–Є–ї–∞—Б—М –±—Л. –° –і—А—Г–≥–Њ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л: —Б–Є–Љ–≤–Њ–ї —Г–і–Є–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–є –љ–µ–љ–∞–і–µ–ґ–љ–Њ—Б—В–Є –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–∞ вАФ —Б—В–Њ–Є—В –Ї–∞–Ј–∞–Ї—Г –Њ–њ—Г—Б—В–Є—В—М (–љ–∞–Љ–µ—А–µ–љ–љ–Њ –Є–ї–Є —Б–ї—Г—З–∞–є–љ–Њ) —А—Г–Ї–Є, –Ї–∞–Ї —О–љ–Њ–µ —Г—В–Њ–љ—З–µ–љ–љ–Њ–µ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ –њ—А–Њ—Б—В–Њ –њ–Њ–≥–Є–±–љ–µ—В. –•—А—Г–њ–Ї–Њ—Б—В—М —Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В—Б—П –Њ–±–Њ—А–Њ—В–љ–Њ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ–Њ–є —Г—Б—В–Њ–є—З–Є–≤–Њ—Б—В–Є.
–†–µ—З—М –љ–µ –Њ–± —Г—Б—В–Њ–є—З–Є–≤–Њ—Б—В–Є —А–Њ–Љ–∞–љ–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є –Љ–Њ–љ–∞—А—Е–Є–Є, —В—Г—В –і–µ–ї–Њ –і—А—Г–≥–Њ–µ вАФ –Љ–µ—Е–∞–љ–Є–Ј–Љ –Љ–Є—А–∞, –і–µ—Б—П—В–Є–ї–µ—В–Є—П–Љ–Є –±–µ–Ј–Њ—И–Є–±–Њ—З–љ–Њ —Д—Г–љ–Ї—Ж–Є–Њ–љ–Є—А–Њ–≤–∞–≤—И–Є–є –≤ –Х–≤—А–Њ–њ–µ (–і—А—Г–≥–Њ–≥–Њ –Љ–Є—А–∞ –Ъ–∞—Д–Ї–∞ –љ–µ –Ј–љ–∞–ї), –≤–Є—Б–Є—В, –љ–∞ —Б–∞–Љ–Њ–Љ –і–µ–ї–µ, –љ–∞–і –±–µ–Ј–і–љ–Њ–є, —Б—В–Њ–Є—В —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–∞–≤–µ—Б—В–Є —Д–Њ–Ї—Г—Б, –≤–љ–Є–Љ–∞—В–µ–ї—М–љ–µ–µ –њ—А–Є–≥–ї—П–і–µ—В—М—Б—П –Ї –љ–µ–Љ—Г. –Э–µ –Ј—А—П –ґ–µ –њ–∞—Б—Б–∞–ґ –Њ —В—А–µ—Е—Б–Њ—В–ї–µ—В–Є–Є –†–Њ–Љ–∞–љ–Њ–≤—Л—Е —Г–њ–∞–Ї–Њ–≤–∞–љ –≤ –і–љ–µ–≤–љ–Є–Ї–µ –Љ–µ–ґ–і—Г –і–≤—Г–Љ—П –і—А—Г–≥–Є–Љ–Є –Ј–∞–њ–Є—Б—П–Љ–Є. –Я–µ—А–≤–∞—П вАФ —З–Є—Б—В–Њ –Љ–µ—Й–∞–љ—Б–Ї–∞—П, –≤—В–Њ—А–∞—П вАФ —В–Њ–ґ–µ, —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —В–∞–Љ –љ–µ –Љ–µ—Й–∞–љ—Б–Ї–∞—П –ґ–Є–Ј–љ—М, –∞ –Ї–Є–љ–Њ –њ—А–Њ dolce vita, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ —Б–Љ–Њ—В—А—П—В –Љ–µ—Й–∞–љ–µ. –Я–µ—А–≤—Л–є —В–∞–Ї–Њ–є: ¬Ђ–Ш–Ј –Њ—В–µ–ї—П ¬Ђ–Ф–µ –°–∞–Ї—Б–µ¬ї –≤—Л—Е–Њ–і–Є—В —Б—Г–њ—А—Г–ґ–µ—Б–Ї–∞—П –њ–∞—А–∞, —Б–Њ–≤–µ—А—И–∞—О—Й–∞—П —Б–≤–∞–і–µ–±–љ–Њ–µ –њ—Г—В–µ—И–µ—Б—В–≤–Є–µ. –Я–Њ–њ–Њ–ї—Г–і–љ–Є. –С—А–Њ—Б–∞—О—В –Њ—В–Ї—А—Л—В–Ї—Г –≤ –њ–Њ—З—В–Њ–≤—Л–є —П—Й–Є–Ї. –Ш–Ј–Љ—П—В–∞—П –Њ–і–µ–ґ–і–∞, —А–∞—Б—Б–ї–∞–±–ї–µ–љ–љ–∞—П –њ–Њ—Е–Њ–і–Ї–∞.; –њ–∞—Б–Љ—Г—А–љ–Њ, –њ—А–Њ—Е–ї–∞–і–љ–Њ. –Э–∞ –њ–µ—А–≤—Л–є –≤–Ј–≥–ї—П–і –Љ–∞–ї–Њ—Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–љ—Л–µ –ї–Є—Ж–∞¬ї.
–Я–Њ—Б–ї–µ–і–љ—П—П –Ј–∞–њ–Є—Б—М –Ј–∞ 01.07.1913: ¬Ђ–Ь–Є–ї–ї–Є–Њ–љ–µ—А –љ–∞ —Н–Ї—А–∞–љ–µ –≤ –Ї–Є–љ–Њ ¬Ђ–†–∞–±—Л –Ј–Њ–ї–Њ—В–∞¬ї. –Ч–∞–њ–Њ–Љ–љ–Є—В—М. –≠—В–Њ —Б–њ–Њ–Ї–Њ–є—Б—В–≤–Є–µ, –Љ–µ–і–ї–µ–љ–љ—Л–µ —Ж–µ–ї–µ—Г—Б—В—А–µ–Љ–ї–µ–љ–љ—Л–µ –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є—П, –њ—А–Є –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ—Б—В–Є —Г—Б–Ї–Њ—А–µ–љ–љ—Л–є —И–∞–≥, –њ–Њ–і—А–∞–≥–Є–≤–∞–љ–Є—П —А—Г–Ї–Є. –С–Њ–≥–∞—В, –Є–Ј–±–∞–ї–Њ–≤–∞–љ, —Г–±–ї–∞–ґ–µ–љ, –љ–Њ –Ї–∞–Ї –Њ–љ –≤—Б–Ї–∞–Ї–Є–≤–∞–µ—В, —Б–ї–Њ–≤–љ–Њ —Б–ї—Г–≥–∞, –Є –Њ–±—Б–ї–µ–і—Г–µ—В –Ї–Њ–Љ–љ–∞—В—Г –≤ –ї–µ—Б–љ–Њ–Љ —В—А–∞–Ї—В–Є—А–µ, –≥–і–µ –Њ–љ –Ј–∞–њ–µ—А—В¬ї. –Я–µ—А–µ–і –љ–∞–Љ–Є —В–∞ —Б–∞–Љ–∞—П –ґ–Є–Ј–љ—М, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –Љ—Л, –µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Ж—Л, –ґ–Є–≤–µ–Љ. –Ь–Є–ї–ї–Є–Њ–љ—Л –љ–Њ–≤–Њ–±—А–∞—З–љ—Л—Е –µ–Ј–і—П—В –≤ —Б–≤–∞–і–µ–±–љ—Л–µ –њ—Г—В–µ—И–µ—Б—В–≤–Є—П, –њ–Є—И—Г—В –Њ—В–Ї—А—Л—В–Ї–Є —А–Њ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Є–Ї–∞–Љ –Є –і—А—Г–Ј—М—П–Љ, –≥—Г–ї—П—О—В —А–∞—Б—Б–ї–∞–±–ї–µ–љ–љ–Њ. –Ш –ї–Є—Ж–∞ —Г –љ–Є—Е (–љ–∞—Б) –≤—Б–µ —В–∞–Ї –ґ–µ –Љ–∞–ї–Њ—Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–љ—Л. –Ш –Ї–Є–љ–Њ –њ—А–Њ –Љ–Є–ї–ї–Є–Њ–љ–µ—А–Њ–≤ —Б–љ–Є–Љ–∞—О—В –≤ –Є–Ј–Њ–±–Є–ї–Є–Є. –Э–∞ —Н–Ї—А–∞–љ–µ –±–Њ–≥–∞—З–Є —Б–њ–Њ–Ї–Њ–є–љ—Л –Є —В–∞–Ї –і–∞–ї–µ–µ, —Е–Њ—В—П —З–∞—Б—В–Њ —Б—В—А–∞–і–∞—О—В –њ—А–Є—Б—В—Г–њ–∞–Љ–Є –±–µ—Б–њ–Њ–Ї–Њ–є—Б—В–≤–∞ –Є –њ–∞–љ–Є–Ї–Є. –Я–Њ—Б–ї–µ–і–љ–µ–µ –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ –≤–∞–ґ–љ–Њ.
–°–Ї–Њ–ї—М –±—Л –љ–∞–і–µ–ґ–љ—Л–Љ –љ–Є –Ї–∞–Ј–∞–ї—Б—П –љ–∞—И –Љ–Є—А, –Њ–љ —Е—А—Г–њ–Њ–Ї –Є –µ–≥–Њ –і–µ—А–ґ–Є—В –љ–∞ —А—Г–Ї–∞—Е –Њ–≥—А–Њ–Љ–љ—Л–є –Ї–∞–Ј–∞–Ї. –≠—В–Њ—В –Ї–∞–Ј–∞–Ї –Њ–±—А–µ—З–µ–љ –і–µ—А–ґ–∞—В—М –µ–≥–Њ, –љ–Њ –њ—А–Є–і–µ—В –≤—А–µ–Љ—П –Є –Њ–љ —Г—А–Њ–љ–Є—В/—И–≤—Л—А–љ–µ—В —Б–≤–Њ—О –љ–Њ—И—Г –љ–∞ –Ј–µ–Љ–ї—О. –Ш –Љ–Є—А –њ–Њ–≥–Є–±–љ–µ—В. –Ю—В—В–Њ–≥–Њ –і–∞–ґ–µ —Б–∞–Љ—Л–µ —Г–і–∞—З–ї–Є–≤—Л–µ –Є–Ј –љ–∞—Б (–љ–∞–њ—А., –Љ–Є–ї–ї–Є–Њ–љ–µ—А—Л, —Г—З–Є—В—Л–≤–∞—П –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–µ –Ї –і–µ–љ—М–≥–∞–Љ –Ї–∞–Ї –Ї —Г–љ–Є–≤–µ—А—Б–∞–ї—М–љ–Њ–Љ—Г —Н–Ї–≤–Є–≤–∞–ї–µ–љ—В—Г) –Љ–µ—З—Г—В—Б—П –≤ –Ј–∞–њ–µ—А—В—Л—Е –Ї–Њ–Љ–љ–∞—В–∞—Е. –Ъ–∞—В–∞—Б—В—А–Њ—Д—Л –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–і—П—В –Є–Ј –љ–Є—З–µ–≥–Њ, –≥—А–Њ–Љ –≥—А–µ–Љ–Є—В –љ–∞ —Д–Њ–љ–µ –±–µ–Ј–Љ—П—В–µ–ґ–љ–Њ–≥–Њ –≥–Њ–ї—Г–±–Њ–≥–Њ –љ–µ–±–∞.
–І—Г—В—М –Љ–µ–љ—М—И–µ, —З–µ–Љ –Ј–∞ –≥–Њ–і –і–Њ —Н—В–Њ–є –Ј–∞–њ–Є—Б–Є –≤ –і–љ–µ–≤–љ–Є–Ї–µ, –Ъ–∞—Д–Ї–∞ —Б–Њ—З–Є–љ—П–µ—В –њ–µ—А–≤—Л–є —Б–≤–Њ–є —И–µ–і–µ–≤—А, —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј ¬Ђ–Я—А–Є–≥–Њ–≤–Њ—А¬ї. –Ґ–∞–Љ –Њ–±—Л–і–µ–љ–љ—Л–є —Б–µ–Љ–µ–є–љ—Л–є —А–∞–Ј–≥–Њ–≤–Њ—А –Ј–∞–Ї–∞–љ—З–Є–≤–∞–µ—В—Б—П –Њ—В—Ж–Њ–≤—Б–Ї–Є–Љ –њ—А–Њ–Ї–ї—П—В–Є–µ–Љ –Є —Б—Л–љ –±–µ–ґ–Є—В —В–Њ–њ–Є—В—М—Б—П –≤ —А–µ–Ї—Г. –Ю—В–Љ–µ—З—Г –і–≤–µ –і–µ—В–∞–ї–Є. –†–Њ–Ї–Њ–≤–∞—П –±–µ—Б–µ–і–∞ –≤–µ–і–µ—В—Б—П –Њ –њ—А–Є—П—В–µ–ї–µ —Б—Л–љ–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –ґ–Є–≤–µ—В –≤ –Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥–µ. –Ш, —Б–∞–Љ–Њ–µ –ї—О–±–Њ–њ—Л—В–љ–Њ–µ вАФ –њ–µ—А–≤–∞—П —Д—А–∞–Ј–∞ —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј–∞ –Ј–≤—Г—З–Є—В —В–∞–Ї: ¬Ђ–С—Л–ї–Њ —З—Г–і–µ—Б–љ–Њ–µ –≤–µ—Б–µ–љ–љ–µ–µ –≤–Њ—Б–Ї—А–µ—Б–љ–Њ–µ —Г—В—А–Њ¬ї.
–Ґ–µ–њ–µ—А—М —Б–∞–Љ–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П –њ–Њ–њ—Л—В–∞—В—М—Б—П –њ–Њ–љ—П—В—М —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А —Н—В–Є—Е —Б–∞–Љ—Л—Е –љ–∞–і–µ–ґ–љ—Л—Е —А—Г–Ї, –љ–∞ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –њ–Њ–Ї–Њ–Є—В—Б—П –љ–µ–Є–Ј–ї–µ—З–Є–Љ–Њ –±–Њ–ї—М–љ–Њ–є –љ–∞—Б–ї–µ–і–љ–Є–Ї. –Ф–∞, —Б–Њ—Б–ї–Њ–≤–Є–µ. –Ф–∞, –Ї–∞–Ј–∞–Ї–Є. –°–ї—Г–ґ–Є–ї—Л–µ –ї—О–і–Є. 25 –Љ–∞—П 1917-–≥–Њ, —З–µ—А–µ–Ј —З–µ—В—Л—А–µ –љ–∞—Б—Л—Й–µ–љ–љ—Л—Е –≥–Њ–і–∞ –њ–Њ—Б–ї–µ –±–µ–Ј–Љ—П—В–µ–ґ–љ–Њ–≥–Њ –ї–µ—В–∞ 1913-–≥–Њ, –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А –С–ї–Њ–Ї –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—Й–∞–µ—В—Б—П –Ї –±—А–Њ—И–µ–љ–љ–Њ–Љ—Г –≤ —В–Њ–Љ –ґ–µ 1913-–Љ –і–љ–µ–≤–љ–Є–Ї—Г. –Я–µ—А–≤–∞—П –Ј–∞–њ–Є—Б—М –љ–∞—З–Є–љ–∞–µ—В—Б—П —В–∞–Ї: ¬Ђ–°—В–∞—А–∞—П —А—Г—Б—Б–Ї–∞—П –≤–ї–∞—Б—В—М –і–µ–ї–Є–ї–∞—Б—М –љ–∞ –±–µ–Ј–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ—Г—О –Є –Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ—Г—О. –Т—В–Њ—А–∞—П –љ–µ—Б–ї–∞ –Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М –њ–µ—А–µ–і –њ–µ—А–≤–Њ–є, –∞ –љ–µ –њ–µ—А–µ–і –љ–∞—А–Њ–і–Њ–Љ. –Ґ–∞–Ї–Њ–є –њ–Њ—А—П–і–Њ–Ї —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–ї –ї—О–і–µ–є –≤–µ—А—Г—О—Й–Є—Е (–≤–µ—А–∞ –≤ –њ–Њ–Љ–∞–Ј–∞–љ–Є–µ), –Љ—Г–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е (–љ–µ—А–∞–Ј–і–≤–Њ–µ–љ–љ—Л—Е) –Є —З–µ—Б—В–љ—Л—Е (–∞–Ї—Б–Є–Њ–Љ—Л –љ—А–∞–≤—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є). –° –љ–µ–њ–Њ–Љ–µ—А–љ—Л–Љ –ґ–µ —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є–µ–Љ –†–Њ—Б—Б–Є–Є –≤–≥–ї—Г–±—М –Є –≤—И–Є—А—М, –Њ–љ —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–ї –µ—Й–µ вАФ –≤—Б–µ –њ–Њ–≤–µ–ї–Є—В–µ–ї—М–љ–µ–µ вАФ –≥–µ–љ–Є–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є. –Т—Б–µ—Е —Н—В–Є—Е —Б–≤–Њ–є—Б—В–≤ –і–∞–≤–љ–Њ —Г–ґ–µ –љ–µ –±—Л–ї–Њ —Г –љ–Њ—Б–Є—В–µ–ї–µ–є –≤–ї–∞—Б—В–Є –≤ –†–Њ—Б—Б–Є–Є. –Т–µ—А—Е–Є –Љ–µ–ї—М—З–∞–ї–Є, —А–∞–Ј–≤—А–∞—Й–∞—П –љ–Є–Ј—Л. –Т—Б–µ —Н—В–Њ –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞–ї–Њ—Б—М –Љ–љ–Њ–≥–Њ –ї–µ—В. –Я–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–µ –≥–Њ–і—Л, –њ–Њ –њ—А–Є–Ј–љ–∞–љ–Є—О —Б–∞–Љ–Є—Е –љ–Њ—Б–Є—В–µ–ї–µ–є –≤–ї–∞—Б—В–Є, –Њ–љ–Є –±—Л–ї–Є —Г–ґ–µ —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ —А–∞—Б—В–µ—А—П–љ—Л. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ —А–∞–≤–љ–Њ–≤–µ—Б–Є–µ –љ–µ –љ–∞—А—Г—И–∞–ї–Њ—Б—М. –С–µ–Ј–≤–ї–∞—Б—В–Є–µ —Б–≤–µ—А—Е—Г —Г—А–∞–≤–љ–Њ–≤–µ—И–Є–≤–∞–ї–Њ—Б—М —А–∞–≤–љ–Њ–і—Г—И–Є–µ–Љ —Б–љ–Є–Ј—Г¬ї. –Ф–∞–ї—М—И–µ —В–Њ–ґ–µ –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–љ–Њ, –љ–Њ –Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–Љ—Б—П –љ–∞ —Н—В–Њ–Љ.
–Я—А–Є–љ—П—В–Њ —Б—З–Є—В–∞—В—М, —З—В–Њ –С–ї–Њ–Ї —Б–Ї–≤–µ—А–љ–Њ –њ–Є—Б–∞–ї –њ—А–Њ–Ј–Њ–є, –Љ–Њ–ї, –Њ—В—А—Л–≤–Є—Б—В–Њ, –±–µ–Ј –Ї—А–∞—Б–Њ—В, –Ї–∞–Ї-—В–Њ –і–∞–ґ–µ —З—Г—В—М –ї–Є –љ–µ –≤–Є—Ж–Љ—Г–љ–і–Є—А–љ–Њ. –≠—В–Њ –љ–µ–њ—А–∞–≤–і–∞. –Х–≥–Њ –і–љ–µ–≤–љ–Є–Ї вАФ –Њ–і–љ–Њ –Є–Ј —Б–∞–Љ—Л—Е —Б—В–Є–ї–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є –њ–Њ—Г—З–Є—В–µ–ї—М–љ—Л—Е —З—В–µ–љ–Є–є –љ–∞ —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–Љ —П–Ј—Л–Ї–µ, –Є –≤ —Н—В–Њ–є –Ј–∞–њ–Є—Б–Є –Њ—В 25.05.1917 –С–ї–Њ–Ї —Б–µ–±–µ –љ–µ –Є–Ј–Љ–µ–љ–Є–ї. –Ы—О–±–Њ–є –њ—А–Њ–ґ–ґ–µ–љ–љ—Л–є –њ—Г–±–ї–Є—Ж–Є—Б—В –љ–µ —Г–і–µ—А–ґ–∞–ї—Б—П –Є —Б—Л–≥—А–∞–ї –±—Л –љ–∞ –і–≤—Г—Б–Љ—Л—Б–ї–µ–љ–љ–Њ–Љ —Б–ї–Њ–≤–µ ¬Ђ–±–µ–Ј–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є¬ї; –С–ї–Њ–Ї –ґ–µ –і–µ–ї–∞–µ—В –≤–Є–і, —З—В–Њ –Њ–љ –Ј–љ–∞–µ—В –ї–Є—И—М –Њ–і–љ–Њ –Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–µ вАФ ¬Ђ–≤–ї–∞—Б—В—М, –љ–µ –Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ–∞—П –љ–Є –њ–µ—А–µ–і —З–µ–Љ –Є –љ–Є –њ–µ—А–µ–і –Ї–µ–Љ¬ї. –Ю–њ–Є—Б–∞–љ–Є–µ –≤–ї–∞—Б—В–Є –Є —Б–ї—Г–ґ–Є–ї–Њ–≥–Њ –ї—О–і–∞ (–Њ—В —З–Є–љ–Њ–≤–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Є –∞—А–Љ–Є–Є –і–Њ —В–µ—Е –ґ–µ –Ї–∞–Ј–∞–Ї–Њ–≤) –Ї–∞–Ї —Б–∞–Љ–Њ–і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–Њ–є —Б–Є—Б—В–µ–Љ—Л вАФ —Е–Њ–ї–Њ–і–љ–Њ–µ –Є —В–Њ—З–љ–Њ–µ, –Ї–∞–Ї –Є –±–µ—Б—Б—В—А–∞—Б—В–љ—Л–є –∞–љ–∞–ї–Є–Ј —Г—Б–ї–Њ–≤–Є–є, –њ—А–Є –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е —Н—В–∞ –≤–ї–∞—Б—В—М вАФ —А–∞—Б–њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ—П—П—Б—М –≤—И–Є—А—М –Є –≤–≥–ї—Г–±—М вАФ –Љ–Њ–ґ–µ—В —Д—Г–љ–Ї—Ж–Є–Њ–љ–Є—А–Њ–≤–∞—В—М. –°–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ, –С–ї–Њ–Ї –Њ —А—Г–Ї–∞—Е –Ї–∞–Ј–∞–Ї–∞ –Є –Њ —В–µ—Е, –Ї—В–Њ —Б–Љ–Њ—В—А–Є—В –љ–∞ —Н—В–Њ —Д–Њ—В–Њ. –І—В–Њ–±—Л –љ–µ —Г—А–Њ–љ–Є—В—М –љ–∞—Б–ї–µ–і–љ–Є–Ї–∞, –Ї–∞–Ј–∞–Ї –і–Њ–ї–ґ–µ–љ –±—Л—В—М –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤–µ—А—Г—О—Й–Є–Љ, –Љ—Г–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ –Є —З–µ—Б—В–љ—Л–Љ, –≤ –љ—Л–љ–µ—И–љ–Є—Е —Г—Б–ї–Њ–≤–Є—П—Е –Њ–љ –і–Њ–ї–ґ–µ–љ –±—Л—В—М –µ—Й–µ –Є –≥–µ–љ–Є–∞–ї—М–љ—Л–Љ. –Э–∞—Б–ї–µ–і–љ–Є–Ї (–±–µ–Ј–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ–∞—П –≤–ї–∞—Б—В—М) —В–Њ–ґ–µ –і–Њ–ї–ґ–µ–љ –±—Л—В—М —В–∞–Ї–Њ–≤—Л–Љ. –Ю—З–µ–≤–Є–і–љ–Њ, —З—В–Њ –і–ї—П —В–∞–Ї–Њ–≥–Њ —Б–Њ–≤–њ–∞–і–µ–љ–Є—П —И–∞–љ—Б–Њ–≤ –њ—А–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є –љ–µ—В. –Ю—В—В–Њ–≥–Њ –љ–∞—Б–ї–µ–і–љ–Є–Ї –Њ–±—А–µ—З–µ–љ —Г–њ–∞—Б—В—М.
–Я–ї—О—Б ¬Ђ—А–∞–≤–љ–Њ–і—Г—И–Є–µ —Б–љ–Є–Ј—Г¬ї вАФ —Н—В–Њ —Г—Б–ї–Њ–≤–Є–µ –µ—Й–µ –≤–∞–ґ–љ–µ–µ. ¬Ђ–°–љ–Є–Ј—Г¬ї вАФ —Н—В–Њ –љ–µ –Њ–±–µ —З–∞—Б—В–Є ¬Ђ–≤–ї–∞—Б—В–Є¬ї, —Н—В–Њ ¬Ђ—Б–Љ–Њ—В—А—П—Й–Є–µ –љ–∞ –љ–Є—Е¬ї. –Х—Б–ї–Є ¬Ђ–≤–ї–∞—Б—В—М¬ї –≤ —Н—В–Њ–є —Б—Е–µ–Љ–µ –µ—Б—В—М —З–Є—Б—В–Њ —А—Г—Б—Б–Ї–Є–є –Ї–Њ–ї–Њ—А–Є—В (–Ї–∞–Ј–∞–Ї–Є, —Ж–∞—А–Є –Є –њ—А–Њ—З–∞—П —Е–Њ—Е–ї–Њ–Љ–∞), —В–Њ ¬Ђ—Б–љ–Є–Ј—Г¬ї –њ–ї—О—Б —В–∞–Љ–Њ—И–љ–µ–µ —А–∞–≤–љ–Њ–і—Г—И–Є–µ вАФ –≤–µ—Й—М –≤—Б–µ–Њ–±—Й–∞—П. –†–∞–≤–љ–Њ–і—Г—И–Є–µ —А–Њ–ґ–і–∞–µ—В—Б—П –Є–Ј –њ—А–Є–≤—Л—З–Ї–Є, –њ—А–Є–≤—Л—З–Ї–Є –Ї –љ–µ—Б–њ—А–∞–≤–µ–і–ї–Є–≤–Њ—Б—В–Є; –Є–і–Є–Њ—В—Б–Ї–Њ–µ —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–µ –Є–љ—В–µ–ї–ї–Є–≥–µ–љ—В—Б–Ї–Њ–µ ¬Ђ—Н—Е, –љ–∞–Љ –±—Л –≤–∞—И–Є –њ—А–Њ–±–ї–µ–Љ—Л¬ї –µ—Б—В—М –Њ—В—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ —В–Њ–≥–Њ, ¬Ђ–љ–Є–ґ–љ–µ–≥–Њ¬ї –Њ–±—Й–µ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А–∞–≤–љ–Њ–і—Г—И–Є—П –Ї —Г—Б—В—А–Њ–є—Б—В–≤—Г —Е—А—Г–њ–Ї–Њ–≥–Њ –Љ–Є—А–∞. –Э–µ—Б–њ—А–∞–≤–µ–і–ї–Є–≤–Њ—Б—В—М –љ–∞—Б—В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≥–ї—Г–±–Њ–Ї–∞ –Є —Г–Ї–Њ—А–µ–љ–µ–љ–∞ –≤ —Г—Б—В—А–Њ–є—Б—В–≤–µ –µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Њ–є (–≤ —В. —З. —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є) –ґ–Є–Ј–љ–Є, —З—В–Њ –µ–є –і–∞–ґ–µ –љ–µ–≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ –≤–Њ–Ј–Љ—Г—Й–∞—В—М—Б—П; —Б–Њ —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л –µ–і–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ–∞—П —А–µ–∞–Ї—Ж–Є—П –љ–∞ –љ–µ–µ вАФ —З—Г–≤—Б—В–≤–∞, —Б–ї–µ–Ј—Л, —Н—В–∞ –і–µ—И–µ–≤–∞—П —Б—Г–±—Б—В–Є—В—Г—Ж–Є—П –Љ—Л—И–ї–µ–љ–Є—П –Є –і–µ–є—Б—В–≤–Є—П.
–Э–∞ —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–Є–є –і–µ–љ—М –њ–Њ—Б–ї–µ –Ј–∞–њ–Є—Б–Є –Њ —О–±–Є–ї–µ–µ –†–Њ–Љ–∞–љ–Њ–≤—Л—Е, 2 –Є—О–ї—П 1913-–≥–Њ –≥–Њ–і–∞ –Ъ–∞—Д–Ї–∞ —Д–Є–Ї—Б–Є—А—Г–µ—В –≤ –і–љ–µ–≤–љ–Є–Ї–µ: ¬Ђ–Я–ї–∞–Ї–∞–ї –љ–∞–і –Њ—В—З–µ—В–Њ–Љ –≤–Њ —Б—Г–і–µ –љ–∞–і –і–≤–∞–і—Ж–∞—В–Є—В—А–µ—Е–ї–µ—В–љ–µ–є –Ь–∞—А–Є–µ–є –Р–±—А–∞—Е–∞–Љ, –Ј–∞–і—Г—И–Є–≤—И–µ–є –Є–Ј-–Ј–∞ –љ—Г–ґ–і—Л –Є –≥–Њ–ї–Њ–і–∞ –і–µ–≤—П—В–Є–Љ–µ—Б—П—З–љ—Г—О –і–Њ—З—М –С–∞—А–±–∞—А—Г –Љ—Г–ґ—Б–Ї–Є–Љ –≥–∞–ї—Б—В—Г–Ї–Њ–Љ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –Њ–љ–∞ –љ–Њ—Б–Є–ї–∞ –≤–Љ–µ—Б—В–Њ –њ–Њ–і–≤—П–Ј–Ї–Є –Є —Б–љ—П–ї–∞ —Б –љ–Њ–≥–Є. –°–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ –±–∞–љ–∞–ї—М–љ–∞—П –Є—Б—В–Њ—А–Є—П¬ї. –Ъ–∞—Д–Ї–∞ –њ–ї–∞—З–µ—В –љ–∞–і –Њ—В—З–µ—В–Њ–Љ –љ–µ –Є–Ј-–Ј–∞ —В—А–∞–≥–Є—З–љ–Њ—Б—В–Є –њ—А–Њ–Є–Ј–Њ—И–µ–і—И–µ–≥–Њ, –Њ–љ –њ–Њ—А–∞–ґ–µ–љ –љ–µ –Њ—В–Ї–ї–Њ–љ–µ–љ–Є–µ–Љ –Њ—В –љ–Њ—А–Љ—Л, –∞ —В–µ–Љ, —З—В–Њ –њ–µ—А–µ–і –љ–Є–Љ –љ–Њ—А–Љ–∞, –±–∞–љ–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В—М. –Э–µ—Б–њ—А–∞–≤–µ–і–ї–Є–≤–Њ—Б—В—М –±–∞–љ–∞–ї—М–љ–∞, –Њ–љ–∞ —А–Њ–ґ–і–∞–µ—В —А–∞–≤–љ–Њ–і—Г—И–Є–µ (–Ь–∞—А–Є—П –Р–±—А–∞—Е–∞–Љ –Ј–∞–і—Г—И–Є–ї–∞ –і–Њ—З—М –і–∞–ґ–µ –љ–µ –Є–Ј-–Ј–∞ –Њ—В—З–∞—П–љ–Є—П, –∞ –Њ—В —А–∞–≤–љ–Њ–і—Г—И–Є—П), —А–∞–≤–љ–Њ–і—Г—И–Є–µ —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П, –њ–Њ –С–ї–Њ–Ї—Г, —Г—Б–ї–Њ–≤–Є–µ–Љ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Ї—Ж–Є–Є –Љ–Є—А–∞, –≤–Ї–ї—О—З–∞—О—Й–µ–≥–Њ —Б–∞–Љ–Њ–і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ—Г—О, –Ј–∞–Љ–Ї–љ—Г—В—Г—О –љ–∞ —Б–µ–±–µ –≤–ї–∞—Б—В—М. –≠—В–Њ —Б—В—А–∞–љ–љ—Л–є —Ж–Є—А–Ї, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ —Б–ї–Њ–ґ–љ–µ–є—И–Є–є —В—А—О–Ї –≤–Њ–Ј–і—Г—И–љ–Њ–≥–Њ –≥–Є–Љ–љ–∞—Б—В–∞ –Љ–Њ–ґ–µ—В —А–∞–Ј –Ј–∞ —А–∞–Ј–Њ–Љ –њ–Њ–≤—В–Њ—А—П—В—Б—П —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –µ—Б–ї–Є –Ј—А–Є—В–µ–ї–Є —В—Г–њ–Њ, –±–µ–Ј–Њ –≤—Б—П–Ї–Њ–≥–Њ –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–∞, —Б–Љ–Њ—В—А—П—В –љ–∞ –љ–µ–≥–Њ. –°—В–Њ–Є—В –Є–Љ –Њ—В–≤–µ—А–љ—Г—В—М—Б—П –Є–ї–Є –≤—Л—А–∞–Ј–Є—В—М –љ–µ–і–Њ–≤–Њ–ї—М—Б—В–≤–Њ, –Ї–∞–Ї –≤—Б–µ —А—Г—Е–љ–µ—В.
–Ю–љ, —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ, –Є –љ–∞—З–∞–ї —А—Г—И–Є—В—М—Б—П –≤ –∞–≤–≥—Г—Б—В–µ 1914-–≥–Њ, –љ–Њ –љ–µ —А—Г—Е–љ—Г–ї –µ—Й–µ –і–Њ –Ї–Њ–љ—Ж–∞. –Т–µ–ї–Є—З–∞–є—И–µ–µ –Ј–∞–±–ї—Г–ґ–і–µ–љ–Є–µ —Б—З–Є—В–∞—В—М, —З—В–Њ –Љ—Л –ґ–Є–≤–µ–Љ —Г–ґ–µ –≤ –Ї–∞–Ї–Њ–Љ-—В–Њ –і—А—Г–≥–Њ–Љ —Н–Њ–љ–µ. –Ф–∞, –і—А—Г–≥–Є–µ —А—Г–Ї–Є –і–µ—А–ґ–∞—В –і—А—Г–≥–Њ–≥–Њ –Љ–∞–ї—М—З–Є–Ї–∞, –љ–Њ –≤–Њ—В —А–∞–≤–љ–Њ–і—Г—И–љ—Л–є –≤–Ј–≥–ї—П–і –љ–∞ –љ–Є—Е вАФ —В–Њ—В –ґ–µ. –Ш —В–Њ—В –ґ–µ –Љ–Є—А, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –±—А–Њ—Б–∞–µ—В —Н—В–Њ—В –≤–Ј–≥–ї—П–і. –°–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ, –≤—Б–µ —А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Є –Є –Ї–∞—В–∞—Б—В—А–Њ—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –њ–µ—А—В—Г—А–±–∞—Ж–Є–Є –њ—А–Њ—И–ї–Њ–≥–Њ –≤–µ–Ї–∞ –њ—А–Є—И–ї–Є –Њ—В—В—Г–і–∞. –Ъ—В–Њ —Б –Ї–µ–Љ –≤–Њ—О–µ—В, –љ–µ–Љ—Ж—Л —Б —Д—А–∞–љ—Ж—Г–Ј–∞–Љ–Є, –Є–ї–Є —А—Г—Б—Б–Ї–Є–µ —Б –∞–≤—Б—В—А–Є–є—Ж–∞–Љ–Є, –±–µ–ї—Л–µ —Б –Ї—А–∞—Б–љ—Л–Љ–Є, –Є–ї–Є –Ї—А–∞—Б–љ—Л–µ —Б –Ї–Њ—А–Є—З–љ–µ–≤—Л–Љ–Є, –і–ї—П —Н—В–Њ–є –Њ–±–ї–∞—Б—В–Є –љ–µ—Б–њ—А–∞–≤–µ–і–ї–Є–≤–Њ—Б—В–Є —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ –љ–µ–≤–∞–ґ–љ–Њ; –љ–Є –њ–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є, –љ–Є –Ї—Г–ї—М—В—Г—А–љ—Л–є, –љ–Є –і–∞–ґ–µ —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ-—Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є —Д–∞–Ї—В–Њ—А—Л –Ј–і–µ—Б—М –љ–µ —А–∞–±–Њ—В–∞—О—В. –≠—В–∞ –Њ–±–ї–∞—Б—В—М –љ–∞—Е–Њ–і–Є—В—Б—П –≤–љ–µ —Н—В–Є–Ї–Є, –Є–±–Њ –Ї–∞–Ї–∞—П, –Ї —З–µ—А—В—Г, –Љ–Њ—А–∞–ї—М, –Ї–Њ–≥–і–∞ –і—Г—И–∞—В —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ—Г—О –і–Њ—З—М –Љ—Г–ґ—Б–Ї–Є–Љ –≥–∞–ї—Б—В—Г–Ї–Њ–Љ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –њ–Њ –±–µ–і–љ–Њ—Б—В–Є –љ–Њ—Б—П—В –≤–Љ–µ—Б—В–Њ –і–∞–Љ—Б–Ї–Њ–є –њ–Њ–і–≤—П–Ј–Ї–Є? –Ъ—А–Њ–Љ–µ –±–µ–Ј—А–∞–Ј–ї–Є—З–љ–Њ–є –њ—А–Є–≤—Л—З–Ї–Є –Ї —Б—В—А–∞–і–∞–љ–Є—О –Ј–і–µ—Б—М –љ–µ—В –љ–Є—З–µ–≥–Њ, —А–∞–Ј–≤–µ —З—В–Њ –Є–љ–Њ–≥–і–∞, –Ї–Њ–≥–і–∞ –њ–Њ—П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М —Б–і–µ–ї–∞—В—М —Б—В—А–∞–і–∞—О—Й–Є–Љ–Є –і—А—Г–≥–Є—Е, —Н—В–∞ –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М —А–µ–∞–ї–Є–Ј—Г–µ—В—Б—П. –Ш —В–Њ–≥–і–∞ –њ–Њ–ї—Л—Е–∞—О—В –±–∞—А—Б–Ї–Є–µ —Г—Б–∞–і—М–±—Л, –Њ —З–µ–Љ —Б–њ—А–∞–≤–µ–і–ї–Є–≤–Њ –њ–Є—Б–∞–ї –С–ї–Њ–Ї, –Љ–Њ–ї, –љ–µ –Ј—А—П –≥–Њ—А—П—В, –љ–µ –Ј—А—П.
–Ґ–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–µ —Б–ї–µ–і—Г–µ—В —Б—З–Є—В–∞—В—М –≤—Л—И–µ–љ–∞–њ–Є—Б–∞–љ–љ–Њ–µ —Г–њ—А–∞–ґ–љ–µ–љ–Є–µ–Љ –ї–Є–±–Њ –≤ —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–є –њ—А–Њ–њ–Њ–≤–µ–і–Є, –ї–Є–±–Њ –≤–µ—Е–Њ–≤—Б–Ї–Є–Љ–Є —А–∞–Ј–≥–Њ–≤–Њ—А—З–Є–Ї–∞–Љ–Є –њ—А–Њ –Њ—В–≤—А–∞—В–Є—В–µ–ї—М–љ—Г—О –±–ї–∞–≥–Њ–і–µ—В–µ–ї—М–љ—Г—О –≤–ї–∞—Б—В—М, —З—В–Њ —И—В—Л–Ї–∞–Љ–Є —Б–≤–Њ–Є–Љ–Є –Њ—Е—А–∞–љ—П–µ—В –љ–∞—Б (–Ї–Њ–≥–Њ? –Ї–∞–Ї–∞—П –≤–ї–∞—Б—В—М? —Б–њ—А–∞—И–Є–≤–∞—О —П, –њ–Њ–≥–ї—П–і—Л–≤–∞—П –≤ –Њ–Ї–љ–Њ, –≥–і–µ —В—А–µ—В—М–µ –њ–Њ–Ї–Њ–ї–µ–љ–Є–µ –ї–Њ–љ–і–Њ–љ—Б–Ї–Є—Е –±–µ–Ј—А–∞–±–Њ—В–љ—Л—Е –±–µ–Ј–Ј–∞–±–Њ—В–љ–Њ –≥–Њ–љ—П—В –Љ—П—З–Є–Ї –њ–µ—А–µ–і —В–µ–Љ, –Ї–∞–Ї —А–∞–Ј–≤–µ–Ј—В–Є –Ј–∞–Ї–∞–Ј—З–Є–Ї–∞–Љ –Њ—З–µ—А–µ–і–љ—Г—О –њ–∞—А—В–Є—О —Б—Г–±—Б—В–∞–љ—Ж–Є–є) –Њ—В –≥–љ–µ–≤–∞ –љ–∞—А–Њ–і–љ–Њ–≥–Њ. –®—В—Г–Ї–∞ –Ј–∞–Ї–ї—О—З–∞–µ—В—Б—П –≤ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –Љ—Л –≤—Б–µ вАФ —Б–ї—Г—З–∞–є–љ–Њ –љ–µ –Њ–Ї–∞–Ј–∞–≤—И–Є–µ—Б—П –љ–Є –≤ —А–Њ–ї–Є –љ–∞—Б–ї–µ–і–љ–Є–Ї–∞, –љ–Є –≤ —А–Њ–ї–Є –Ї–∞–Ј–∞–Ї–∞ —Б –Њ–≥—А–Њ–Љ–љ—Л–Љ–Є —А—Г–Ї–∞–Љ–Є вАФ –љ–∞—Е–Њ–і–Є–Љ—Б—П —Б—А–µ–і–Є —А–∞–≤–љ–Њ–і—Г—И–љ–Њ–є –њ—Г–±–ї–Є–Ї–Є. –Э–µ ¬Ђ–Њ–љ–Є¬ї, –∞ ¬Ђ–Љ—Л¬ї –ґ–≥–ї–Є –±–∞—А—Б–Ї–Є–µ —Г—Б–∞–і—М–±—Л, —А–∞—Б—Б—В—А–µ–ї–Є–≤–∞–ї–Є –њ–Њ–њ–Њ–≤, —Г—Б—В—А–∞–Є–≤–∞–ї–Є –µ–≤—А–µ–є—Б–Ї–Є–µ –њ–Њ–≥—А–Њ–Љ—Л, –Љ–∞—А—И–Є—А–Њ–≤–∞–ї–Є –њ–Њ–і —Б–≤–∞—Б—В–Є–Ї–Њ–є, —Б–µ—А–њ–Њ–Љ –Є –Љ–Њ–ї–Њ—В–Њ–Љ –Є —З–µ—А—В–Њ–Љ –ї—Л—Б—Л–Љ.
–Ґ–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–∞—И–Є–Љ —А–∞–≤–љ–Њ–і—Г—И–Є–µ–Љ –Є –і–ї–Є—В—Б—П —В–Њ—В —Б–∞–Љ—Л–є –Љ–Є—А, —З—В–Њ –Њ–±–µ—Й–∞–ї –Ї–Њ–љ—З–Є—В—М—Б—П –≤ 1914-–Љ, –љ–Њ –љ–µ –Ї–Њ–љ—З–Є–ї—Б—П. –Ю–љ—В–Њ–ї–Њ–≥–Є–Ј–Є—А—Г—П —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Г—О –љ–µ—Б–њ—А–∞–≤–µ–і–ї–Є–≤–Њ—Б—В—М, –Љ—Л –∞–≤—В–Њ–Љ–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є –њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞–µ–Љ –≤ –љ–µ–є —Г—З–∞—Б—В–Є–µ, –њ—А–Є—З–µ–Љ —З–∞—Й–µ –≤—Б–µ–≥–Њ –≤ —Б—В—А–∞–і–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–Љ –Ј–∞–ї–Њ–≥–µ. –Ы—О–±–Њ–є –±–∞–љ–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Є–є –Ї–ї–µ—А–Ї —Б—З–Є—В–∞–µ—В —Г–љ–Є–ґ–µ–љ–Є—П –љ–∞ —Б–ї—Г–ґ–±–µ –љ–Њ—А–Љ–∞–ї—М–љ–Њ–є —З–∞—Б—В—М—О –Љ–Є—А–Њ—Г—Б—В—А–Њ–є—Б—В–≤–∞, –∞ —Б–∞–Љ–Є –±–∞–љ–Ї–Є вАФ –љ–µ–њ—А–µ–Љ–µ–љ–љ—Л–Љ —Н–ї–µ–Љ–µ–љ—В–Њ–Љ –Љ–Є—А–∞. –Ю–і–љ–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ, –љ–∞—И –Ї–ї–µ—А–Ї –љ–Є—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–µ –≤–Њ–Ј–Љ—Г—В–Є—В—Б—П —В–Њ–Љ—Г –Њ–±—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М—Б—В–≤—Г, —З—В–Њ –Ј–∞ –Ї–∞–Ї—Г—О-—В–Њ —З—Г—И—М, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –Њ–љ –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞–µ—В—Б—П, –њ–Њ–ї—Г—З–∞–µ—В —А–∞–Ј –≤ –і–µ—Б—П—В—М (–≤ –ї—Г—З—И–µ–Љ —Б–ї—Г—З–∞–µ) –±–Њ–ї—М—И–µ –ї—О–±–Њ–≥–Њ —Г—З–Є—В–µ–ї—П. –Т–њ—А–Њ—З–µ–Љ, –Є —Г—З–Є—В–µ–ї—М —В–Њ–ґ–µ –њ—А–Є–≤—Л—З–љ–Њ –±–µ–Ј—А–∞–Ј–ї–Є—З–µ–љ –Ї —Н—В–Њ–Љ—Г, —Г –љ–µ–≥–Њ —Б–≤–Њ–Є —Б–Ї–µ–ї–µ—В—Л –≤ —И–Ї–∞—Д—Г.
¬Ђ–І—В–Њ –ґ–µ –і–µ–ї–∞—В—М?¬ї, вАФ —Б–њ—А–Њ—Б–Є—В –љ–µ—В–µ—А–њ–µ–ї–Є–≤—Л–є —О–љ–Њ—И–∞. –Р –љ–Є—З–µ–≥–Њ. –Я—А–Њ–±–ї–µ–Љ–∞ –≤ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—В–Є–≤–љ–Њ —А–∞–Ј—А–µ—И–Є—В—М —Н—В—Г –њ—А–Њ–±–ї–µ–Љ—Г –љ–µ–≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ, –љ–µ —А–Є—Б–Ї–љ—Г–≤ –Њ–±—А—Г—И–Є—В—М –Ј–і–∞–љ–Є–µ, –њ–Њ–Ї–Њ—П—Й–µ–µ—Б—П –љ–∞ —З–∞—Б—В–љ–Њ–є —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є, —Б–µ–Љ—М–µ –Є –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ. –Ш–љ–і–Є–≤–Є–і—Г–∞–ї—М–љ–Њ вАФ –і–∞, –≤—Л–Ї–ї—О—З–Є–≤ —Б–µ–±—П –Є–Ј —Н—В–Њ–є —Б–Є—Б—В–µ–Љ—Л; –Њ–і–љ–∞–Ї–Њ —Б–Є–µ —Б–ї–Њ–ґ–љ–Њ –Є –Њ–±—Й–µ–є –њ–Њ–≥–Њ–і—Л –љ–µ —Б–і–µ–ї–∞–µ—В. –Р —В–∞–Ї –Њ—Б—В–∞–µ—В—Б—П –ї–Є—И—М –њ–µ—А–µ–±–Є—А–∞—В—М (—В–µ–њ–µ—А—М —Г–ґ–µ –љ–∞ –Ї–Њ–Љ–њ—М—О—В–µ—А–љ–Њ–Љ —Н–Ї—А–∞–љ–µ) —Д–Њ—В–Њ–≥—А–∞—Д–Є–Є —Б –Ї–∞–Ї–Њ–≥–Њ-—В–Њ –і—А—Г–≥–Њ–≥–Њ —О–±–Є–ї–µ—П, –њ–ї–∞–Ї–∞—В—М –љ–∞–і —Г–≥–Њ–ї–Њ–≤–љ–Њ–є —Е—А–Њ–љ–Є–Ї–Њ–є –Є –њ–Њ–Љ–љ–Є—В—М –≤—Б–µ–≥–і–∞, —З—В–Њ –ї—О–±–Њ–µ —З—Г–і–µ—Б–љ–Њ–µ –≤–µ—Б–µ–љ–љ–µ–µ –≤–Њ—Б–Ї—А–µ—Б–љ–Њ–µ —Г—В—А–Њ –Љ–Њ–ґ–µ—В –Ј–∞–Ї–Њ–љ—З–Є—В—М—Б—П –і–Њ–±—А–Њ–≤–Њ–ї—М–љ—Л–Љ –њ—А—Л–ґ–Ї–Њ–Љ –≤ –≤–Њ–і—Г.
P. S. 30 –∞–≤–≥—Г—Б—В–∞ 1913 –≥–Њ–і–∞, –њ–µ—А–µ–і —В–µ–Љ, –Ї–∞–Ї –њ—А–µ—А–≤–∞—В—М –і–љ–µ–≤–љ–Є–Ї –љ–∞ –њ–Њ–ї—В–Њ—А–∞ –Љ–µ—Б—П—Ж–∞, –Ъ–∞—Д–Ї–∞ –Ј–∞–њ–Є—Б–∞–ї: ¬Ђ–У–і–µ –љ–∞–є—В–Є —Б–њ–∞—Б–µ–љ–Є–µ? –°–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–µ–њ—А–∞–≤–і –≤—Б–њ–ї—Л–≤–∞–µ—В, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е —П —Г–ґ–µ –Є –љ–µ –њ–Њ–Љ–љ—О¬ї. –Т —В–Њ–Љ –ґ–µ –≥–Њ–і—Г –†–Њ–Ј–∞–љ–Њ–≤ (¬Ђ–Ю–њ–∞–≤—И–Є–µ –ї–Є—Б—В—М—П¬ї. –Ъ–Њ—А–Њ–± –њ–µ—А–≤—Л–є): ¬Ђ–†–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є—П —Б–ї–Њ–ґ–µ–љ–∞ –Є–Ј –і–≤—Г—Е –њ–ї–∞—Б—В–Є–љ–Њ–Ї: –љ–Є–ґ–љ—П—П –Є –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–∞—П, arheus agens –µ–µ вАФ –≥–Њ—А–µ—З—М, –Ј–ї–Њ–±–∞, –љ—Г–ґ–і–∞, –Ј–∞–≤–Є—Б—В—М, –Њ—В—З–∞—П–љ–Є–µ. –≠—В–Њ —З–µ—А–љ–Њ—В–∞, –і–µ–Љ–Њ–Ї—А–∞—В–Є—П. –Т–µ—А—Е–љ—П—П –њ–ї–∞—Б—В–Є–љ–Ї–∞ вАФ –Ј–Њ–ї–Њ—В–∞—П: —Н—В–Њ —Б–Є–±–∞—А–Є—В—Л, –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–µ–љ–љ—Л–µ –Є –љ–µ –і–µ–ї–∞—О—Й–Є–µ; –≥—Г–ї—П—О—Й–Є–µ; –љ–µ —Б–ї—Г–ґ–∞—Й–Є–µ. –Э–Њ –Њ–љ–Є —З–µ–Љ-–љ–Є–±—Г–і—М ¬Ђ–љ–∞ –њ—А–Њ–≥—Г–ї–Ї–∞—Е¬ї –±—Л–ї–Є —Г—П–Ј–≤–ї–µ–љ—Л, –Є–ї–Є вАФ –њ—А–Њ—Б—В–Њ —Б–ї–Є—И–Ї–Њ–Љ –і–Њ–±—А—Л, –Љ—П–≥–Ї–Є, —Г—Б—В—Г–њ—З–Є–≤—Л, –Ї–Њ–љ—Д–µ—В–љ—Л¬ї. –Ґ–Њ, —З—В–Њ –љ–∞—З–∞–ї–Њ—Б—М —З–µ—А–µ–Ј –≥–Њ–і –њ–Њ—Б–ї–µ —Н—В–Є—Е –Ј–∞–њ–Є—Б–µ–є вАФ –Ї–∞—В–∞—Б—В—А–Њ—Д–∞ (—Б –њ–Њ—З—В–Є –њ–Њ–ї–љ–Њ–є –Ј–∞–Љ–µ–љ–Њ–є) –Ј–Њ–ї–Њ—В–Њ–є –њ–ї–∞—Б—В–Є–љ–Ї–Є. –Э–Є–ґ–љ—П—П, –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–∞—П вАФ –њ–Њ-–њ—А–µ–ґ–љ–µ–Љ—Г –і—А–µ–±–µ–Ј–ґ–Є—В. –Ш –≤—Б–µ –≤—Б–њ–ї—Л–≤–∞—О—В –љ–µ–њ—А–∞–≤–і—Л, –Њ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –љ–Є–Ї—В–Њ –љ–µ –њ–Њ–Љ–љ–Є—В –њ–Њ–Ї–∞.
–Ъ–Є—А–Є–ї–ї –Ъ–Њ–±—А–Є–љ
polit.ru