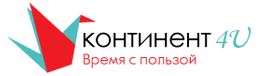–Ы–Ш–Ґ–Х–†–Р–Ґ–£–†–Э–Р–ѓ –°–Ґ–†–Р–Э–Ш–¶–Р

–Ю–Ґ –°–Ю–°–Ґ–Р–Т–Ш–Ґ–Х–Ы–ѓ:
–Ъ–∞–Љ–Є–љ—Б–Ї–Є–є –Х–≤–≥–µ–љ–Є–є –Ѓ—А—М–µ–≤–Є—З вАФ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л–є —А—Г—Б—Б–Ї–Є–є –њ–Њ—Н—В, –њ—А–Њ–Ј–∞–Є–Ї, —З–ї–µ–љ –°–Я –°–Я–± –Є –°–Њ—О–Ј–∞ —А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Є—Е –њ–Є—Б–∞—В–µ–ї–µ–є. –†–Њ–і–Є–ї—Б—П –≤ –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і–µ –≤ 1957 –≥–Њ–і—Г. –Ч–∞–Ї–Њ–љ—З–Є–ї –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і—Б–Ї–Є–є –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є —Г–љ–Є–≤–µ—А—Б–Є—В–µ—В. –Р–≤—В–Њ—А –Љ–љ–Њ–≥–Њ—З–Є—Б–ї–µ–љ–љ—Л—Е –ґ—Г—А–љ–∞–ї—М–љ—Л—Е –њ—Г–±–ї–Є–Ї–∞—Ж–Є–є, –≤ —В–Њ–Љ —З–Є—Б–ї–µ –≤ –ґ—Г—А–љ–∞–ї–∞—Е ¬Ђ–Ч–≤–µ–Ј–і–∞¬ї, ¬Ђ–Э–µ–≤–∞¬ї, ¬Ђ–Р–≤—А–Њ—А–∞¬ї, ¬Ђ–Ю–Ї—В—П–±—А—М¬ї, ¬Ђ–Т–Њ–ї–≥–∞¬ї, ¬Ђ–£—А–∞–ї¬ї ¬Ђ–Ы–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–љ–∞—П —Г—З–µ–±–∞¬ї, ¬Ђ–°–µ–≤–µ—А–љ–∞—П –Р–≤—А–Њ—А–∞¬ї, ¬Ђ–Ы–Є—В–µ—А–∞—А—Г—Б¬ї (–•–µ–ї—М—Б–Є–љ–Ї–Є) –Є –і—А. –Я—Г–±–ї–Є–Ї–Њ–≤–∞–ї—Б—П –≤ ¬Ђ–Ы–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–љ–Њ–є –≥–∞–Ј–µ—В–µ¬ї, –≤ –Њ—В–µ—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е –Є –Ј–∞—А—Г–±–µ–ґ–љ—Л—Е –∞–ї—М–Љ–∞–љ–∞—Е–∞—Е, –≤ —З–∞—Б—В–љ–Њ—Б—В–Є, –≤ –∞–ї—М–Љ–∞–љ–∞—Е–∞—Е ¬Ђ–Я–Њ—Н–Ј–Є—П¬ї, ¬Ђ–Ф–µ–љ—М –њ–Њ—Н–Ј–Є–Є¬ї, ¬Ђ–Ш—Б—В–Њ–Ї–Є¬ї, ¬Ђ–Я–Њ–і–≤–Є–≥¬ї –Є –і—А., –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –≤–Њ –Љ–љ–Њ–≥–Є—Е –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—В–Є–≤–љ—Л—Е —Б–±–Њ—А–љ–Є–Ї–∞—Е. –Р–≤—В–Њ—А —Б–µ–Љ–Є –њ–Њ—Н—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —Б–±–Њ—А–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Є –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Є—Е —А–Њ–Љ–∞–љ–Њ–≤, –Њ–њ—Г–±–ї–Є–Ї–Њ–≤–∞–љ–љ—Л—Е –њ–Њ–і –њ—Б–µ–≤–і–Њ–љ–Є–Љ–Њ–Љ –Х–≤–≥–µ–љ–Є–є –Ъ—А–µ—Б—В–Њ–≤—Б–Ї–Є–є. –Ы–∞—Г—А–µ–∞—В –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–љ–Њ–є –њ—А–µ–Љ–Є–Є –Э–µ–Ј–∞–≤–Є—Б–Є–Љ–Њ–є –њ—А–µ–њ–Њ–і–∞–≤–∞—В–µ–ї—М—Б–Ї–Њ–є –∞—Б—Б–Њ—Ж–Є–∞—Ж–Є–Є (1992 –≥.) –Ј–∞ –њ–Њ—Н–Ј–Є—О. –Ы–∞—Г—А–µ–∞—В –њ—А–µ–Љ–Є–Є –У–Њ–≥–Њ–ї—П (2007 –≥.) –Ј–∞ —А–Њ–Љ–∞–љ ¬Ђ–Ъ–љ—П–Ј—М –Ф–Њ–ї–≥–Њ—А—Г–Ї–Њ–≤¬ї. –Т –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–µ–µ –≤—А–µ–Љ—П вАФ –Ј–∞–≤. –Њ—В–і–µ–ї–Њ–Љ –њ—А–Њ–Ј—Л –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–љ–Њ–≥–Њ –ґ—Г—А–љ–∞–ї–∞ ¬Ђ–Ч–≤–µ–Ј–і–∞¬ї.
–°–µ–Љ—С–љ –Ъ–∞–Љ–Є–љ—Б–Ї–Є–є, newproza@gmail.com
_________________
–Х–≤–≥–µ–љ–Є–є –Ъ–∞–Љ–Є–љ—Б–Ї–Є–є
–Я–†–Х–Ф–І–£–Т–°–Ґ–Т–£–Х–Ґ –С–Х–Ч–Ф–Э–£ –Ф–£–®–Р
* * *
...–Ш –≤—Б–µ –±–ї–Є–ґ–µ —А–∞–Ј–≤—П–Ј–Ї–∞. –Я—А–µ–і—З—Г–≤—Б—В–≤—Г–µ—В –±–µ–Ј–і–љ—Г –і—Г—И–∞.
–Я–Њ–і–ї–Њ–≤–Є–≤ –њ–Њ–Ї–Њ–ї–µ–љ—М–µ –љ–∞ —Б–ї–∞–і–Ї–Є–є –Ї—А—О—З–Њ–Ї –±–∞—А—Л—И–∞,
–Ј–≤–µ—А—М —Г–ґ–µ –Ј–∞–Ї—А—Г—В–Є–ї —Б–≤–Њ–є —Б—О–ґ–µ—В –Њ—В –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Л –і–Њ –Э—М—О-–Щ–Њ—А–Ї–∞.
–Р –≤ –њ–∞—А—В–µ—А–µ –Ј–µ–≤–∞—О—В, —Д–Њ–ї—М–≥–Њ–є –Њ—В–Ї—А–Њ–≤–µ–љ–љ–Њ —И—Г—А—И–∞.
–Ш, —Г—Б—В–∞–≤ –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞—В—М, –њ–Њ–Љ–Є—А–∞–µ—В –Њ—В —Б–Љ–µ—Е–∞ –≥–∞–ї–µ—А–Ї–∞.
–Т –њ–µ—А–≤–Њ–Љ –∞–Ї—В–µ –±—Л –≤—Б–µ –Ј–∞–≤–µ—А—И–Є—В—М, –≥–і–µ –≤ –Ї–Њ–ґ–∞–љ–Ї–µ –љ–∞—З–њ—А–Њ–і
—Б—В—А–Њ–Є—В —Б–≤–µ—В–ї–Њ–µ –Ј–∞–≤—В—А–∞, –Є —А–∞–ґ–Є–є –Ї–≤–∞—Б–љ–Њ–є –њ–∞—В—А–Є–Њ—В
–њ–Њ —Б—А–∞–≤–љ–µ–љ—М—О —Б –±–Њ—А—Ж–Њ–Љ –Ј–∞ —Б–≤–Њ–±–Њ–і—Л –Є–Ј —В—А–µ—В—М–µ–≥–Њ вАФ –і—Г—И–Ї–∞.
–Р –≤ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–µ–Љ –љ–∞ —Б—Ж–µ–љ—Г, –Ї–∞–Ї –≤–Њ–і–Є—В—Б—П, –≤—Л–є–і–µ—В –љ–∞—А–Њ–і,
—З—В–Њ–±—Л —В–≤–µ—А–і—М —Б–Њ–Ї—А—Г—И–Є—В—М. –Ю—Е, –њ–Њ–њ–ї–∞—З–µ—В –љ–∞–і —Б—Л–љ–Њ–Љ —Б—В–∞—А—Г—И–Ї–∞!
–Ч–∞—В–∞–Є—В—М—Б—П –±—Л –≥–і–µ, –Ј–∞—В–µ—А—П—В—М—Б—П –±... –љ–Њ, –Ї–∞–Ї –љ–Є —О–ї–Є,
–Є –≤ —Б–µ—А–Љ—П–ґ–љ–Њ–є –≥–ї—Г–±–Є–љ–Ї–µ, —Б–њ–∞—Б–µ–љ—М–µ –Ї—Г–њ–Є–≤ –Ј–∞ —А—Г–±–ї–Є,
–љ–µ —Г–є—В–Є –Њ—В –≤—А–µ–Љ–µ–љ, –љ–Є —О—А–Њ–і—Б—В–≤—Г—П, –љ–Є –ї–Є—Ж–µ–Љ–µ—А—П...
–Ф–∞–ґ–µ —В–µ, —З—В–Њ вАФ –Ї–∞–Ї –і–µ—В–Є, —Б–Љ–µ—П—Б—М, –Њ—В–њ–∞–і—Г—В –Њ—В –ї—О–±–≤–Є,
–≤–Њ–Ј–ї—О–±–Є–≤—И–Є –Є–Ј –±–µ–Ј–і–љ—Л –љ–∞ —Б–≤–µ—В –≤—Л—Е–Њ–і—П—Й–µ–≥–Њ –Ј–≤–µ—А—П.
–Р–Э–У–Х–Ы
–†—П–і–Њ–≤–Њ–є –љ–µ–±–Њ–ґ–Є—В–µ–ї—М, –Љ–∞—Б—В–µ—А –≤–Ј—П—В—М –Є –њ–Њ–Љ–Њ—З—М, вАУ
—Е–Њ–і–Є—В –∞–љ–≥–µ–ї-—Е—А–∞–љ–Є—В–µ–ї—М –њ–Њ –њ—П—В–∞–Љ –і–µ–љ—М –Є –љ–Њ—З—М.
–Ч–∞ —А—П–±—Л–Љ —А–∞–±–Њ—В—П–≥–Њ–є, –Ј–∞ —В—Г–≥–Є–Љ –Љ—П—Б–љ–Є–Ї–Њ–Љ,
–Ї–∞–Ї –њ—Г—Б—В–∞—П –±—Г–Љ–∞–≥–∞ –Є–Ј –њ–∞—А—В–Ї–Њ–Љ–∞ –≤ –њ—А–Њ—Д–Ї–Њ–Љ.
–Ґ–Є—Е–Є–є, —З—Г—В–Ї–Є–є –Є –±–ї–µ–і–љ—Л–є, –Ї–∞–ґ–і–Њ–є –Ї–Њ—И–Ї–µ –Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ,
–≤–µ—Б—М –Њ–Ї—В—П–±—А—М —Е–Њ–і–Є—В, –±–µ–і–љ—Л–є, –њ–Њ–і –і–Њ–ґ–і–µ–Љ –±–Њ—Б–Є–Ї–Њ–Љ,
–±–µ–Ј –≥–Њ—А—П—З–µ–≥–Њ —З–∞—П, –Ї–∞–Ї —Г–і–∞—А–љ–Є–Ї —В—А—Г–і–∞,
–≥–Њ–ї–Њ–≤–Њ—О –Ї–∞—З–∞—П... –Ш –≥–Њ—А–Є—В –Њ—В —Б—В—Л–і–∞!
–Я–Є—И–µ—В –і–Є–Ї—Г—О –њ–Њ–≤–µ—Б—В—М –њ—А–Њ –§–Њ–Љ—Г-–і—Г—А–∞–Ї–∞,
–њ—А–Њ–Љ–µ–љ—П–≤—И–µ–≥–Њ —Б–Њ–≤–µ—Б—В—М –љ–∞ —Б–≤–Є–љ—П—З—М–Є –±–Њ–Ї–∞,
–љ–∞ –±–µ—Б—Б—В—Л–ґ—Г—О —А–Њ–ґ—Г –Є –Ї–Њ–њ–Є–ї–Ї—Г, —Е–Њ—В—М —А–µ–ґ—М...
–Ю–љ –њ–Њ –Њ–±—А–∞–Ј—Г —В–Њ–ґ–µ. –Э–Њ –њ–Њ–і–Њ–±–Є–µ –≥–і–µ –ґ?
–Т—Л—И–ї–µ—В –С–Њ–≥ –љ–∞–Љ –њ–Њ–≥–Њ–і–Ї—Г, –∞ –Ї–ї–Є–µ–љ—В –≤—Б–µ –Њ–і–љ–Њ:
–ї–Є—И—М –±—Л –і—Г—В—М —Б–≤–Њ—О –≤–Њ–і–Ї—Г –Є –ї–µ–ґ–∞—В—М –Ї–∞–Ї –±—А–µ–≤–љ–Њ.
–І—В–Њ –µ–Љ—Г –±–Њ–і—А–Њ—Б—В—М –і—Г—Е–∞ —Б –Њ—Б—В—А–Њ–є –њ—А–∞–≤–і–Њ–є –≤ –≥–Њ—А—Б—В–Є?!
–Э–µ –њ–∞—Б–Є —Н—В–Њ –±—А—О—Е–Њ! –≠—В—Г –њ–ї–Њ—В—М –љ–µ —Б–њ–∞—Б—В–Є.
–І—В–Њ –±–µ–Ј–і–Њ–Љ–љ–µ–µ —И–∞–≤–Ї–Є, –±–µ–Ј –њ—А–Є—Б–Љ–Њ—В—А–∞ –≤—А–∞—З–∞,
–Ј–і–µ—Б—М —И–∞—В–∞—В—М—Б—П –±–µ–Ј —И–∞–њ–Ї–Є, –і–≤–∞ –Ї—А—Л–ї–∞ –≤–Њ–ї–Њ—З–∞?
–Ґ—Л вАУ –ї—О–±–Њ–≤—М –љ–∞–Љ –і–∞ –ї–∞—Б–Ї—Г, –∞ —В–µ–±–µ вАУ –љ–∞–≥–Њ–љ—П–є...
–£–ї–µ—В–∞–є –≤ —Б–≤–Њ—О —Б–Ї–∞–Ј–Ї—Г. –Ф—Г—А–∞–Ї–∞ –љ–µ –≤–∞–ї—П–є!
–Т–Њ—В –Љ–Њ–є –њ–ї–∞—Й –Є –≥–∞–ї–Њ—И–Є. –Т–Њ—В вАУ –±–Є–ї–µ—В –љ–∞ –Ы—Г–љ—Г...
–£–ї–µ—В–∞–є, –Љ–Њ–є —Е–Њ—А–Њ—И–Є–є, —В—Л –µ–Љ—Г –љ–Є –Ї —З–µ–Љ—Г.
–Э–Р –Т–Х–†–Э–Ш–°–Р–Ц–Х
–Ю, –Ї–∞–Ї —П –≥–µ—А–Њ–µ–≤ –ї—О–±–ї—О, –Ї–∞–Ї –Є—Е —Г–≤–∞–ґ–∞—О –Ј–∞ –Ї—А–∞–є–љ–Њ—Б—В—М
—Г—В—А–Њ–Є—В—М —Б–≤–Њ—О —Г—А–Њ–ґ–∞–є–љ–Њ—Б—В—М –Є —Б—В–∞–ї–Є–љ—Б–Ї–Є–є –њ–ї–∞–љ –њ–Њ —Г–≥–ї—О!
–Ъ–∞–Ї —П –Њ–±–Њ–ґ–∞—О —В—А–Є–њ—В–Є—Е, –≥–і–µ –њ–ї—Г–≥, –Љ–Њ–ї–Њ—В–Є–ї–Ї–∞ –Є —В—А–∞–Ї—В–Њ—А...
–Ј–∞ —В–Њ, —З—В–Њ –ї–∞–Ј–Њ—А–µ–≤ –Є —В–Є—Е, –Є –ґ–Є–≤ —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї–Є–є —Д–∞–Ї—В–Њ—А,
–Є –Ї —Б–≤–µ—В—Г –≤—Б–µ–≥–і–∞ –њ–Њ–≤–Њ—А–Њ—В, –Є –њ–∞—Е–∞—А–Є, –і–µ—В–Є, –і–Њ—П—А–Ї–Є
–≤–Њ–ґ–і—О –њ—А–µ–њ–Њ–і–љ–Њ—Б—П—В –њ–Њ–і–∞—А–Ї–Є, –Є –ї—О—В–Њ –ї–Є–Ї—Г–µ—В –љ–∞—А–Њ–і!..
–Я—Г—Б—В—М –Љ–Є—А —Н—В–Њ—В –ї–ґ–Є–≤ –љ–∞ –Ї–Њ—А–љ—О –Є –ґ–Є–≤–Њ–њ–Є—Б—М –љ–µ –±–µ–Ј –Є–Ј—К—П–љ–∞,
–љ–Њ –ї—Г—З—И–µ –ґ–ї–Њ–±—Л –Э–∞–ї–±–∞–љ–і—П–љ–∞, —З–µ–Љ –≤–∞—И–µ –±–µ—Б–њ–Њ–ї–Њ–µ –љ—О!
–Ф–∞, —П –Ї–∞–љ–∞—А–µ–µ–Ї –ї—О–±–ї—О, –ї—О–±–ї—О –∞–±–∞–ґ—Г—А–Њ–≤ —П —Б–Њ–ї–љ—Ж—Л,
–њ—Г–Ј–∞—В—Л—Е –Ї–Њ—В–Њ–≤ –њ–Њ —З–µ—А–≤–Њ–љ—Ж—Г, –Ї–Њ–љ–і–Њ–≤—Л—Е —Б–≤–Є–љ–µ–є –њ–Њ —А—Г–±–ї—О.
–С–µ–Ј–Љ–Њ–Ј–≥–ї—Л–µ... –І—В–Њ —В—Г—В —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М... –Р –≤—Б–µ –ґ–µ вАУ –ґ–Є–≤—Л–µ, –∞ –≤—Б–µ –ґ–µ
–Є —Н—В–Є —З—Г–Љ–∞–Ј—Л–µ —А–Њ–ґ–Є –љ–µ—В-–љ–µ—В –і–∞ –Љ–∞–Ј–љ–µ—В –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—В—М.
–Р –≤—Б–µ –ґ–µ –љ–∞ —Б–µ—А–і—Ж–µ —В–µ–њ–ї–µ–є, –Ї–Њ–≥–і–∞ —Б –њ–Њ–ї–Њ—В–љ–∞ –љ–∞ —В–Њ–ї–Ї—Г—З–Ї–µ
–Љ–∞–і–∞–Љ —В–µ–±–µ —Б–і–µ–ї–∞–µ—В —А—Г—З–Ї–Њ–є, —Е–≤–Њ—Б—В–∞—В–Њ —Б–≤–Є—Б–∞—П —Б –≤–µ—В–≤–µ–є.
–ѓ —Б –љ–µ–є –±—Л –Њ—Б—В–∞–ї—Б—П, –µ–є-–µ–є, –і–∞ –Љ–љ–µ –≤—Л—Е–Њ–і–Є—В—М –љ–∞ –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ–є...
–Ф–∞, –њ–ї–Њ—Б–Ї–Њ, –љ–Њ –Ї–∞–Ї-—В–Њ —Б–µ—А–і–µ—З–љ–µ–є. –Ш —П –±—Л —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї, –≤–µ—Б–µ–ї–µ–є!
–Я–Ю–°–Ы–Х–Ф–Э–Ш–Х –°–Ґ–†–Ю–§–Ђ
–ѓ –њ–ї–µ–ї—Б—П –Љ–µ–ґ–і—Г –Љ—А–∞–Љ–Њ—А–љ—Л—Е —А—П–і–Њ–≤,
–≤ –≤–Є–і—Г –Є–Љ–µ—П –Є—Б—В–Є–љ—Г –Є–љ—Г—О.
–†–∞–Ј—А—Г–±—Й–Є–Ї –њ–Њ—Б–ї–µ –њ—А–∞–≤–µ–і–љ—Л—Е —В—А—Г–і–Њ–≤
—Б—Г–ї–Є–ї –Љ–љ–µ –і–∞—А–Њ–Љ –≥–Њ–ї–Њ–≤—Г —Б–≤–Є–љ—Г—О.
–Ю–љ –≤–ї–∞—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї, –Њ–љ –±—Г—А–љ–Њ –ї–Є–Ї–Њ–≤–∞–ї
–њ–Њ –њ–Њ–≤–Њ–і—Г —Б—В—А–µ–Љ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–є —В–Њ—А–≥–Њ–≤–ї–Є,
–њ–Њ–Ї–∞ —П —И–µ–ї –Є–Ј –њ—А–Њ—И–ї–Њ–≥–Њ –≤ –њ—А–Њ–≤–∞–ї
–≥—А—П–і—Г—Й–µ–≥–Њ, —В–µ–Ї—Г—Й–Є–Љ –і–љ–µ–Љ –Њ—В–ї–Њ–≤–ї–µ–љ.
–У–ї–∞–Ј–∞ –µ–≥–Њ —Б–Є—П–ї–Є –Є, —Б–Љ–µ—П—Б—М,
—Б–Є—П—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ –µ–≥–Њ —А—Г–Ї–Њ–є –≥–Њ—А—П—З–µ–є
—Б–Њ–≤–∞–ї –Љ–љ–µ –і–∞—А, –≤ –≤–Є–і—Г –Є–Љ–µ—П —Б–≤—П–Ј—М
–Љ–Њ–µ–є —В—Й–µ—В—Л –Є —Г—З–∞—Б—В–Є —Б–≤–Є–љ—П—З—М–µ–є.
–Ш, —Ж–µ–ї–Є–Ї–Њ–Љ —Б–≥–Њ—А–∞—П –Њ—В —Б—В—Л–і–∞,
–љ–µ –≤ —Б–Є–ї–∞—Е –Њ—В–Њ–і–≤–Є–љ—Г—В—М –≤–Ј–Њ—А –Њ—В —А—Л–ї–∞,
—П –њ—А–Є–љ—П–ї –і–∞—А –Љ—Г—З–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–є вАУ –Њ, –і–∞! вАУ
–Є –≤—Л—И–µ–ї, –љ–Њ–≥ –љ–µ —З—Г—П, —И–µ—Б—В–Є–Ї—А—Л–ї–Њ.
–°–Ї–≤–Њ–Ј—М —Б—В—А–Њ–є —В–Њ—А–≥–Њ–≤—Ж–µ–≤, –Љ–∞—П—Б—М –≥–Њ–ї–Њ–≤–Њ–є,
—Б–Ї–≤–Њ–Ј—М —Ж–∞—А—Б—В–≤–Њ –і—Г—И, —Д–Њ—А–Љ–∞–ї—М–љ—Л—Е –њ–Њ–≥–Њ–ї–Њ–≤–љ–Њ,
—П –љ–µ—Б —Б–≤–Є–љ—Г—О –≥–Њ–ї–Њ–≤—Г –і–Њ–Љ–Њ–є,
–Ї–∞–Ї –≤ –Љ–Є—А –њ—А–µ—Б—В—Г–њ–љ—Л–є вАУ –Ї–Њ–і–µ–Ї—Б —Г–≥–Њ–ї–Њ–≤–љ—Л–є.
–Ь–µ–ґ –љ–µ–±–Њ–Љ —Б–ї–Њ–≤ вАУ –Љ–∞–љ–µ—А–Њ–Љ –≤–Њ—А–Њ–≤—Б–Ї–Є–Љ вАУ
–Є –њ–ї–Њ—В—М—О –і–µ–ї –љ–µ –≤ —Б–Є–ї–∞—Е —А–∞–Ј–Њ—А–≤–∞—В—М—Б—П,
—П —И–µ–ї —Б–і–∞–≤–∞—В—М—Б—П –њ–ї–Њ—В—Б–Ї–Њ–Љ—Г —Б —В–Њ—Б–Ї–Є,
—В–µ—А—П—П —Б—В—Л–і, —П —Б–≤–Є–љ—Б—В–≤—Г —И–µ–ї —Б–і–∞–≤–∞—В—М—Б—П.
–ѓ —И–µ–ї —Г–њ—А—П–Љ–Њ –ґ–Є–Ј–љ—М —Б–≤–Њ—О –Љ–µ–љ—П—В—М,
—И–µ–ї –њ–Њ—Б–Ї–Њ—А–µ–є –љ–∞ –њ—А–Є–Ј—А–∞—З–љ–Њ–µ —В–µ–ї–Њ
—В—П–ґ–µ–ї—Л–є –±–∞—А—Е–∞—В –Љ–Є—А–∞ –њ—А–Є–Љ–µ—А—П—В—М
–Є –њ—А–∞–Ј–і–љ–Є–Ї —З–∞—И–µ–є —З–µ—А–њ–∞—В—М –±–µ–Ј –њ—А–µ–і–µ–ї–∞.
–ѓ –Ї –ґ–Є–Ј–љ–Є —И–µ–ї, —А–µ—И–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–є, –Ї–∞–Ї —В–∞—В—М,
—И–µ–ї —Б–ї–∞–і–Њ—Б—В–љ–Њ –Љ–Њ–ї—М–±–Њ–є –µ–µ —Г–њ–Є—В—М—Б—П,
—И–µ–ї, –љ–∞–Ї–Њ–љ–µ—Ж, —П–Ј—Л–Ї –µ–є –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В—М,
–Ї–∞–Ї –Є–Ј-–њ–Њ–і –њ–Њ—В–Њ–ї–Ї–∞ —Б–∞–Љ–Њ—Г–±–Є–є—Ж–∞.
–Ь–Ю–°–Ъ–Т–Р
–У–љ—Г—В—Л–µ –±–µ—А–µ–Ј–Ї–Є –≤–і–Њ–ї—М –±–Њ–ї–Њ—В, –ї—О—В–Њ–µ, –љ–∞–і–≤–Є–љ—Г—В–Њ–µ –љ–µ–±–Њ
–Є —В—А–Њ–њ—Л –±–µ–Ј–≤–Њ–ї—М–љ—Л–є –њ–Њ–≤–Њ—А–Њ—В –≤ —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Г, –≥–і–µ –Є—Б—В–Є–љ—Л –љ–µ —В—А–µ–±–∞.
–•–Њ–ї–Њ–і –Њ—В—З—Г–ґ–і–µ–љ–Є—П –њ–Њ–ї–µ–є, —А–Њ—Й–Є –≥–ї—Г—И—М, –Ј–∞–њ—А–µ—В–љ–∞—П, –Ї–∞–Ї –Ј–Њ–љ–∞,
–Є –≤–Њ—Б–њ–µ—В—М –≤—Б–µ —Н—В–Њ —Б–Њ–ї–Њ–≤–µ–є —Б–Є–ї—П—Й–Є–є—Б—П —Б —Г–і–∞–ї—М—О –Ъ–Њ–±–Ј–Њ–љ–∞.
–Т–Њ—В —В–µ–±–µ —А–Њ–і–Є–Љ—Л–µ –Љ–µ—Б—В–∞, –Я—В–Є—Ж–∞-—В—А–Њ–є–Ї–∞ –≤–Њ—В —В–µ–±–µ –ї–Є—Е–∞—П!
–Э–∞–і –Ј–µ–Љ–ї–µ—О –≥–Є–±–ї–Њ–є –љ–Є –Ї—А–µ—Б—В–∞, –љ–Є –Ї–Њ–ї–∞, –ї–Є—И—М –≤—Л—И–Ї–∞ –≤–µ—А—В—Г—Е–∞—П,
—Б–ї–Њ–≤–љ–Њ –≤–Њ–њ–ї–Њ—Й–µ–љ–љ–∞—П —В–Њ—Б–Ї–∞... –Р –≤–і–∞–ї–Є, –Ї–∞–Ї —А–Њ–і–Є–љ–∞ –і—А—Г–≥–∞—П,
–њ—А–∞–Ј–і–љ–∞—П –Ї—Г—А–∞–ґ–Є—В—Б—П –Ь–Њ—Б–Ї–≤–∞, —А–Њ–ґ–µ–є –±–∞—Б—Г—А–Љ–∞–љ—Б–Ї–Њ—О –њ—Г–≥–∞—П.
–†–Њ–і–Є–љ—Г –њ–Њ –Љ–∞—В–µ—А–Є –њ–Њ—Б–ї–∞–≤, —Б–Љ–Њ—В—А–Є—В –љ–∞ –њ–Њ–ї—П –і–∞ –љ–∞ –±–Њ–ї–Њ—В–∞
—Ж–∞—А—Б—В–≤–∞ –Т–∞–≤–Є–ї–Њ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –∞–љ–Ї–ї–∞–≤ –Ї–∞–Ї –±–∞—А–∞–љ –љ–∞ –љ–Њ–≤—Л–µ –≤–Њ—А–Њ—В–∞.
–Ґ–Њ—В –ї–Є –≤—Б–µ –њ–∞–і–µ–ґ –Є –љ–µ–і–Њ—А–Њ–і? –Ґ–∞–Ї –ї–Є –≤—Б–µ –њ—Г—В–µ–Љ –Ї—А–Є–≤—Л–Љ –і–∞ —Г–Ј–Ї–Є–Љ
–Ї —Б–≤–µ—В—Г –њ—А–Њ–±–Є–≤–∞–µ—В—Б—П –љ–∞—А–Њ–і, –±—Л–≤—И–Є–є –љ–∞ –Ј–µ–Љ–ї–µ –Ї–Њ–≥–і–∞-—В–Њ —А—Г—Б—Б–Ї–Є–Љ?
–Ф–µ–љ–µ–ґ–Ї–Є –±—О–і–ґ–µ—В–љ—Л–µ –њ–Є–ї—П, —Б—В–∞–≤–Є—В —Б–≤–µ—З–Є –њ–µ—А–µ–і –Њ–±—А–∞–Ј–∞–Љ–Є...
–†—Г—Б—Б–Ї–∞—П –љ–∞ –Ї–Њ–є –µ–Љ—Г –Ј–µ–Љ–ї—П, –њ—М—П–љ—Л–Љ–Є —Г–Љ—Л—В–∞—П —Б–ї–µ–Ј–∞–Љ–Є?!
–Ъ–Њ—А—З–∞—Й–Є–є—Б—П –Ы–∞–Ј–∞—А–µ–Љ –≤ –њ—Л–ї–Є, —Б–µ–є –љ–∞—А–Њ–і, –≥—А–Њ–±–∞–Љ —Е—А–∞–љ—П—Й–Є–є –≤–µ—А–љ–Њ—Б—В—М?!
–І—В–Њ –µ–Љ—Г —И–µ—Б—В–∞—П —З–∞—Б—В—М –Ј–µ–Љ–ї–Є?! –Ґ–∞–Ї, –Ы—Г–љ—Л –Њ–±—А–∞—В–љ–∞—П –њ–Њ–≤–µ—А—Е–љ–Њ—Б—В—М...
* * *
–Ґ–Є—Е–Є–µ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–∞,
–≤ —Б–Љ—Л—Б–ї–µ –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є вАФ —И—В–Є–ї—М.
–С—Г–љ–Є–љ–∞ –Є –Ш–ї—М–Є–љ–∞
–Љ–∞–ї—М—З–Є–Ї –љ–µ—Б–µ—В –≤ —Г—В–Є–ї—М.
–І—В–Њ –µ–Љ—Г —Б–≤—П–Ј—М –≤—А–µ–Љ–µ–љ?!
–Ц–µ—А—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М —З—В–Њ –µ–Љ—Г?!
–Т—Л–љ–µ—Б—В–Є –Љ—Г—Б–Њ—А –≤–Њ–љ
–Є —Г—В–Њ–њ–Є—В—М –Ь—Г–Љ—Г.
–Я–Њ—Б–ї–µ —З—Г—В—М-—З—Г—В—М –Ї—Г—А–љ—Г—В—М
–Є–ї–Є –≤–Ї–Њ–ї–Њ—В—М —Б–ї–µ–≥–Ї–∞,
—З—В–Њ–±—Л –њ–Њ–і–љ—П—В—М —В—Г—В –Љ—Г—В—М
–Є —А–∞–Ј–≤–µ—Б—В–Є –ї–Њ—Е–∞.
–Я–ї–Њ—Й–∞–і—М –Љ–µ—В–µ—В –Я–ї–∞—В–Њ–љ,
—В–Њ–њ–Є—В –Ї–Њ—В–µ–ї –°–Њ–Ї—А–∞—В,
–Њ—Д–Є—Б–љ—Л–є –µ—Б—В –њ–ї–∞–љ–Ї—В–Њ–љ
—Б–≤–Њ–є –Њ–≤–Њ—Й–љ–Њ–є —Б–∞–ї–∞—В,
—Б–ї–Њ–≤–Њ —Б–≤–Њ–і—П –љ–∞ –љ–µ—В...
–†–∞–Ј–≤–µ –љ–µ –њ—А–Њ—Й–µ —В–∞–Ї:
–≤—Л–Ї–ї—О—З–Є–≤ –њ—А–∞–≤–і—Л —Б–≤–µ—В,
–ґ–Є—В—М, —Г–Љ–љ–Њ–ґ–∞—П –Љ—А–∞–Ї?!
–Ц–Є—В—М, —Г–Љ–љ–Њ–ґ–∞—П –Ј–ї–Њ,
—Б—А–Њ–Ї–∞ –Љ–Њ—В–∞—П –љ–Є—В—М,
–µ—Б–ї–Є –љ–µ –њ–Њ–≤–µ–Ј–ї–Њ
–≤ —Б–Є—Е –≤—А–µ–Љ–µ–љ–∞—Е –љ–µ –ґ–Є—В—М...
* * *
–£–Љ–Њ–Љ –†–Њ—Б—Б–Є—О –љ–µ –њ–Њ–љ—П—В—МвА¶
–§.–Ґ—О—В—З–µ–≤
–ѓ –Є–Ј —Н—В–Є—Е –±–Њ–ї–Њ—В, –Є–Ј –ї–µ—Б–Њ–≤ –њ–Њ–ї–љ—Л—Е –≤–µ—Й–µ–≥–Њ —Б—В—А–∞—Е–∞
–Т —Н—В–Є—Е –≤–∞—А–≤–∞—А—Б–Ї–Є—Е –љ–µ—В—П—Е —Г–ґ–µ —П –њ–Њ –≥–Њ—А–ї–Њ –њ–Њ–≥—А—П–Ј.
–Ь–љ–µ –Ї–∞–Ї —А–∞–Ј –њ–Њ –њ–ї–µ—З—Г –Ї–ї–Њ—З–Ї–Њ–≤–∞—В–Њ–≥–Њ –љ–µ–±–∞ —А—Г–±–∞—Е–∞
–Є –њ–Њ–≤–∞–ї—М–љ–∞—П —Б–Ї–Њ—А–±—М –і–µ—А–µ–≤–µ–љ—М –Љ–љ–µ –њ–Њ —Б–µ—А–і—Ж—Г –Ї–∞–Ї —А–∞–Ј.
–£–Ј–љ–∞—О —Н—В—Г –ґ–Є–Ј–љ—М –њ–Њ —Б–Ї–Є—А–і–∞–Љ –Є —А–µ–Ї–Њ—А–і–љ—Л–Љ –љ–∞–і–Њ—П–Љ.
–≠—В–Њ—В –≤ –ї—О–і–Є –љ–∞—А–Њ–і –≤—Л—Е–Њ–і—П—Й–Є–є —Б —Г—В—А–∞ –љ–∞ –±—А–Њ–≤—П—ЕвА¶
–ѓ –ї—О–±–ї—О —Н—В–Њ –њ—А–∞–≤–Њ —Б–µ–±—П —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–∞—В—М –Љ–Њ—А–і–Њ–±–Њ–µ–Љ,
–µ—Б–ї–Є –љ–µ –Ј–∞ —З—В–Њ –±–Њ–ї—М—И–µ –њ–Њ–ї–µ—З—М –≤ –±–µ—Б–њ–Њ—Й–∞–і–љ—Л—Е –±–Њ—П—Е.
–Ш –±–∞–±—М–µ, –љ–Є—З–µ–≥–Њ —Г–ґ –љ–µ –ґ–і—Г—Й–µ–µ —Г —Е–ї–µ–±–Њ—А–µ–Ј–Ї–Є,
—А–∞–Ј–≤–µ –Ї—Г–Ї–Є—И –≤ –Ї–∞—А–Љ–∞–љ–µ –љ–µ—Б—Г—Й–µ–µ –≤ –і–Њ–Љ –Љ—Г–ґ–Є—З—М–µвА¶
–ѓ –ї—О–±–ї—О —Н—В—Г —Б–≤–µ—В–ї—Г—О –≤–µ—А—Г –≤ –љ–Є—З—В–Њ –њ–Њ-—Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Є
–Є –љ–∞ –ї—Г—З—И—Г—О –і–Њ–ї—О –ї—О–±–ї—О —Н—В–Њ –њ—А–∞–≤–Њ –љ–Є—З—М–µ.
–ѓ –ї—О–±–ї—О —Н—В–Њ —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–µ –њ–Њ–ї–µ —Б —Е—А—Г—Б—В–∞–ї—М–љ–Њ–є —А–Њ—Б–Њ—О,
–≥–і–µ, –±–µ–ґ–∞—В—М –љ–µ –њ—Л—В–∞—П—Б—М, —Б–Ї–ї–Њ–љ–Є–ї–∞—Б—М –Ї–Њ–ї–Њ—Б—М—П–Љ–Є —А–Њ–ґ—М,
–і–ї—П –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –≤–µ—Б—М –≤—Л–±–Њ—А вАУ –ї–Є—И—М –Љ–µ–ґ–і—Г —Б–µ—А–њ–Њ–Љ –Є –Ї–Њ—Б–Њ—О
–і–∞ –µ—Й–µ –Њ–ґ–Є–і–∞–љ—М—П –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–µ–≥–Њ —Г–ґ–∞—Б–∞ –і—А–Њ–ґ—М.
–Э–µ—В, —Г–Љ–Њ–Љ –љ–µ –њ–Њ–љ—П—В—М, –љ–µ –Є–Ј–Љ–µ—А–Є—В—М –∞—А—И–Є–љ–Њ–ЉвА¶ –Ш–љ–∞—П,
—З–µ–Љ —Г –њ—А–Њ—З–Є—Е, —В–≤–Њ—П –љ–∞ —Е—Г–ї—Г –Њ–±—А–µ—З–µ–љ–љ–∞—П —Б—В–∞—В—МвА¶
–ѓ –±—Л –≤–µ—А–Є–ї –≤ —В–µ–±—П, —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–µ—В —В–µ–±–µ –≤–µ—А—Л, —А–Њ–і–љ–∞—П.
–Ґ–∞–Ї –ї—О–±–Є—В—М —Е–Њ—В—М –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—М, –љ–µ –≥–Њ–љ–Є. –І—В–Њ —Б —В–µ–±—П –µ—Й–µ –≤–Ј—П—В—М?!
* * *
–°–Ї—А—Г—З–µ–љ–љ—Л–є, –Ї–∞–Ї –≤–∞–ї—В–Њ—А–љ–∞,
—Б–Љ—Л—Б–ї –љ–µ—А–Њ–ґ–і–µ–љ–љ—Л—Е —Б—В—А–Њ–Ї
—А–∞–і–Њ—Б—В–љ–Њ –Є –њ—А–Њ—Б—В–Њ—А–љ–Њ
—Б–µ—А–і—Ж—Г –і–∞—А–Є–ї –≤–Њ—Б—В–Њ—А–≥,
–њ—А–µ–і–≤–Њ—Б—Е–Є—Й–∞–≤—И–Є–є —Б–ї–Њ–≥–∞
–њ–µ—А–≤–Њ–≥–Њ –≤ —Б–ї–Њ–≤–µ –Ј–≤—Г–ЇвА¶
–С—Л–≤—И–µ–Љ—Г –і—Г–і–Ї–Њ–є –С–Њ–≥–∞,
–Ї–∞–Ї —Н—В–Њ вАУ —Б–≥–Є–љ—Г—В—М –≤–і—А—Г–≥?!
–С—Л—В—М –љ–∞—А–∞–≤–љ–µ —Б —В—А–∞–≤–Њ—О
–≤—Л—В–Њ–њ—В–∞–љ–љ—Л–Љ –і–Њ—В–ї–∞
–љ—Л–љ–µ—И–љ–µ–є —В–∞—В–∞—А–≤–Њ—О?!
–І–Є—Б—В–Њ –Љ–µ—В–µ—В –Љ–µ—В–ї–∞
–љ–Њ–≤—Л—Е –≤—А–µ–Љ–µ–љ –њ–Њ —Б—В–∞—А—Л–ЉвА¶
–Т—Л–є–і–µ—И—М —Б –±—А–µ–≥–Њ–≤ –Э–µ–≤—Л,
—Б–ї–Њ–≤–Њ –Њ—В–і–∞–≤—И–Є–є –і–∞—А–Њ–Љ,
–њ—А–µ–≤–Њ–Ј–Љ–Њ–≥–∞—П —А–≤—Л,
–≥–Њ—А—Л –њ–µ—А–µ–і–≤–Є–≥–∞—П,
–≤–Њ–ї–љ –њ—А–Њ–≥–Є–±–∞—П –≥–ї–∞–і—МвА¶
–Т —Б–µ—А–і—Ж–µ —Б—В—А—Г–љ–∞ —В—Г–≥–∞—П
—Б—В–Њ–љ–µ—В: –љ–µ —Б–Љ–µ—В—М —А—Л–і–∞—В—М!
–≠—В–Њ –µ—Й–µ –љ–µ —В–Њ—З–Ї–∞.
(–Ь–∞–ї–Њ –ї–Є —З—В–Њ вАУ –љ–µ –≤ –Љ–Њ—З—М!)
–С—Г–і–µ—В –Є –≤ –≥—А—Г–і—М –Ј–∞—В–Њ—З–Ї–∞,
–Є –Ј–∞ –Ї–Њ–ї—О—З–Ї–Њ–є –љ–Њ—З—М.
–°—В–∞–љ–µ—В –µ—Й–µ –Ї–Њ—И–Љ–∞—А–Њ–Љ
–±—Л–ї—М –Њ —А–Њ–і–љ–Њ–є —Б—В—А–∞–љ–µ,
–≥–і–µ –њ–Њ–≥–Є–±–∞–ї —В—Л –і–∞—А–Њ–Љ,
–±—Л—В—М –љ–µ –ґ–µ–ї–∞–≤—И–Є–є –≤–љ–µ.
* * *
–Т—Б–µ –њ–Є—И–µ—И—М –Є –њ–Є—И–µ—И—М, –Є —Б—В–Є—Е —Б—В–∞–≤–Є—И—М –њ–ї–Њ—В–љ–Њ –Ї —Б—В–Є—Е—Г,
—Г–ґ–µ –љ–µ –њ–Њ –і–ґ–Њ–љ–Ї–∞–Љ —Б–Ї–Њ–ї—М–Ј–Є—И—М, –∞ –њ–ї–µ—В–µ—И—М—Б—П —Б –Њ–і—Л—И–Ї–Њ–є.
–Ш –љ–Њ—Б–Є—И—М –Ї–∞—А–∞–Ї—Г–ї—МвА¶ –Р –њ–Њ–Љ–љ–Є—И—М, –љ–∞ —А—Л–±—М–µ–Љ –Љ–µ—Е—Г
—П–≤–ї—П–ї—Б—П –Ї—Г—Е–∞—А–Ї–µ —Б –ї—О–±–Њ–≤—М—О –≤ —В–µ—В—А–∞–і–Ї–µ –њ–Њ–і –Љ—Л—И–Ї–Њ–є?
–Ю, –≥–і–µ —В—Л, –ї—О–±–≤–Є –Ј–∞ –Ї–Њ–њ–µ–є–Ї—Г –≤–µ–ї–Є–Ї–∞—П –і—А–Њ–ґ—М!
–ѓ –њ–Њ–Љ–љ—О, –Њ–љ–∞, —В–Њ—А–Њ–њ—П—Б—М, —А–∞—Б–њ—Г—Б–Ї–∞–ї–∞ –Ї–Њ—Б–Є—Ж—Г,
–∞ –њ–Њ—Б–ї–µ —Б–Є–љ–Є—Ж—Г —Б–ґ–Є–Љ–∞–ї–∞вА¶ –°–Є–љ–Є—Ж—Г –љ–µ —В—А–Њ–ґ—М!
–Я–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г —В–µ–њ–µ—А—М –Є –ґ—Г—А–∞–≤–ї—М –љ–∞–Љ –µ–і–≤–∞ –ї–Є –њ—А–Њ—Б—В–Є—В—Б—ПвА¶
–Р—Г, –њ–Њ—Ж–µ–ї—Г–Є! –Ш –њ–ї–∞—В—М—П –≤ –≥–Њ—А–Њ—И–µ–Ї, –≥–і–µ –≤—Л?
–Т –Ї–∞—А–∞–Ї—Г–ї–µ —В—П–ґ–Ї–Њ–Љ –Њ—В–љ—Л–љ–µ —Б–Є–і–Є –Є –љ–µ –Ї–∞—А–Ї–∞–євА¶
–Р —З—Г–і–љ–Њ –±—Л–≤–∞–ї–Њ, –љ–∞ —А—Л–±—М–µ–Љ –Љ–µ—Е—Г, —Г –Э–µ–≤—Л
–љ–µ–Љ–љ–Њ–ґ–µ—З–Ї–Њ —Б–њ—П—В–Є—В—М –њ–Њ–і —А—Г—З–Ї—Г —Б –Ї—Г—Е–∞—А–Ї–Њ—О –ґ–∞—А–Ї–Њ–є?
–Ъ–∞–Ї —Е–Њ—З–µ—В—Б—П –ґ–Є—В—М —Б –Њ–±–ї–∞–Ї–∞–Љ–Є –Њ–≥—А–Њ–Љ–љ–Њ–є —Б–µ–Љ—М–µ–є!
–£—В—О–ґ–Є—В—М —В—Г–Љ–∞–љ–љ—Г—О –і–∞–ї—М –≤–і–Њ–ї—М –Ї–∞–љ–∞–≤–Ї–Є –Ы–µ–±—П–ґ—М–µ–є
–Є –±–Є—Б–µ—А –Љ–µ—В–∞—В—М –≥–Њ—А—П—З–Њ –њ–µ—А–µ–і –Ї–∞–ґ–і–Њ–є —Б–≤–Є–љ—М–µ–є,
–≤ –Ї—Г—Е–∞—А–Ї—Г –≤–ї—О–±–Є–≤—И–Є—Б—М –Є –≤ –і—Г—И—Г –Ї—Г—Е–∞—А–Ї–Є–љ—Г –і–∞–ґ–µ.
–Я–Ю–Ы–Х–Т–Ђ–Х –¶–Т–Х–Ґ–Ђ
–Ю–љ–Є –љ–µ –Ј–љ–∞—О—В, —З—В–Њ –Њ–љ–Є —Ж–≤–µ—В—Л.
–†–∞—Б–Ї–Є–љ—Г–≤ —А—Г–Ї–Є, –Ј–∞–њ—А–Њ–Ї–Є–љ—Г–≤ –ї–Є—Ж–∞,
–Њ–љ–Є вАУ –±–µ–Ј —З—Г–≤—Б—В–≤вА¶ –Ы–Є—И—М —З—Г–≤—Б—В–≤–Њ –≤—Л—Б–Њ—В—Л
–Є–Љ –±—М–µ—В –≤ –≤–Є—Б–Ї–Є, –њ–Њ –ґ–Є–ї–∞–Љ –Є—Е —Б—В—А—Г–Є—В—Б—П.
–Ш —В–∞–Ї –≤—Б—О –ґ–Є–Ј–љ—М: —В–Њ –≤–µ—В–µ—А –≥–љ–µ—В, —В–Њ –≤–і—А—Г–≥
—В–∞–Ї —Е–ї—Л–љ–µ—В, —З—В–Њ –Њ—Б–ї–µ–њ–љ–µ—И—М –њ–Њ–љ–µ–≤–Њ–ї–µвА¶
–Э–∞–і –њ–Њ–ї–µ–Љ –≤—Б—В–∞–≤, —Ж–≤–µ—В—Л –љ–µ –≤–Є–і—П—В –њ–Њ–ї–µ,
–љ–Њ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–µ–±–∞ —П—А–Ї–Є–є –њ–Њ–ї—Г–Ї—А—Г–≥.
–І—В–Њ, –ї–µ–≥–Ї–Є–Љ, –Є–Љ –і–Њ —В—П–ґ–µ—Б—В–Є –Ј–µ–Љ–ї–Є?!
–Ш–Љ –Ї–∞–ґ–µ—В—Б—П, —З—В–Њ –Ї—А–Њ–Љ–µ –љ–Є—Е –љ–∞ —Б–≤–µ—В–µ
–µ—Б—В—М —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ—В–Є—Ж—Л, –±–∞–±–Њ—З–Ї–Є, —И–Љ–µ–ї–ЄвА¶
–І—В–Њ –ґ–Є–Ј–љ—М вАУ –њ–Њ–ї–µ—В, –∞ –Љ–Є—А вАУ –њ—А–Њ—Б—В–Њ—А –Є –≤–µ—В–µ—А.
–Ш –≤–Њ—В –Њ–љ–Є –Њ—В—Б—О–і–∞ –≤—В–Њ—А–Њ–њ—П—Е
—Б–њ–µ—И–∞—В –Ї—Г–і–∞-—В–Њ —Б –±–∞–±–Њ—З–Ї–∞–Љ–Є –≤–Љ–µ—Б—В–µ,
–љ–µ –≤–µ–і–∞—П –Њ –≥–ї–Є–љ–µ –Є –Ї–Њ—А–љ—П—Е,
–љ–µ –Ј–љ–∞—П, —З—В–Њ –≤—Б—О –ґ–Є–Ј–љ—М —Б—В–Њ—П—В –љ–∞ –Љ–µ—Б—В–µ.
–Я–µ—А–µ–і –≥—А—П–і—Г—Й–Є–Љ –Є–Љ –љ–µ –≤–µ–і–Њ–Љ —Б—В—А–∞—Е.
–Ш–Љ –Ї–∞–њ–ї—П –≤–ї–∞–≥–Є вАУ –Ј–µ—А–Ї–∞–ї–Њ –Ї—А–Є–≤–Њ–µ,
–≤ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ —Б–Њ–ї–љ—Ж–µ, –≤—Б—В–∞–≤ –љ–∞–і –≥–Њ–ї–Њ–≤–Њ—О,
–≤–Њ –Є–Љ—П –Є—Е —Б–≥–Њ—А–∞–µ—В –≤ –љ–µ–±–µ—Б–∞—Е.
* * *
–Т–Њ—В –Є –Ї–Њ–љ–µ—Ж –Ј–Є–Љ–µ. –Т—Л—И–µ–ї, —Б—Г—А–Њ–≤ –Є —А–Њ–Ј–Њ–≤,
–і–≤–Њ—А–љ–Є–Ї –≤ —Б–≤–Њ–µ–Љ —Г–Љ–µ –њ–Њ—Б–ї–µ –±—Л–ї—Л—Е –љ–µ–≤—А–Њ–Ј–Њ–≤.
–Т—Л—И–µ–ї, –Є–Љ–µ—П —З–µ—Б—В—М –≤ –Љ–Є—А–µ –≤—А–µ–Љ–µ–љ —А–∞–Ј–Њ—А–∞
–Љ—Г—Б–Њ—А–∞ –≥–Њ—А—Л –Љ–µ—Б—В—М, –ґ–µ—З—М –њ–Є—А–∞–Љ–Є–і—Л –≤–Ј–і–Њ—А–∞.
–Т –і–∞—В—Б–Ї–Њ–Љ –њ—А–Є—И–µ–ї –њ–ї–∞—Й–µ –љ–µ –Њ–±—Б—Г–ґ–і–∞—В—М –њ—А–Є—З–Є–љ—Л вАУ
–Љ–∞—Б–Ї–Є —Б—А—Л–≤–∞—В—М –≤–Њ–Њ–±—Й–µ –Є –Њ–±–љ–∞–ґ–∞—В—М –ї–Є—З–Є–љ—Л!
–•–Њ—З–µ—В—Б—П —В–Є—И–Є–љ—Л, —З—В–Њ–±—Л –љ–µ –љ—Л–ї–Є –љ–µ—А–≤—Л.
–Ґ–Є—Е–Њ–є –≤—В–Њ—А–Њ–є –ґ–µ–љ—Л –њ–Њ—Б–ї–µ –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–є –њ–µ—А–≤–Њ–є.
–•–Њ—З–µ—В—Б—П –љ–µ –њ—Л–ї–Є—В—М. –Т–µ—Б—М –њ–Њ–љ–µ–і–µ–ї—М–љ–Є–Ї, –≤—В–Њ—А–љ–Є–Ї
—Е–Њ—З–µ—В—Б—П –њ–ї—Л—В—М –Є –њ–ї—Л—В—МвА¶–Я–Њ–ї–љ–Њ, —В–Њ–≤–∞—А–Є—Й –і–≤–Њ—А–љ–Є–Ї,
–Ї–Њ—И–µ–Ї –≥–Њ–љ—П—В—М –і–∞ –њ—В–Є—Ж, –і—Г—И–Є –љ–µ–≤–Њ–ї–Є—В—М —З–Є—Б—В–Ї–Њ–євА¶
–І—В–Њ —В—Л, –Ї–∞–Ї –Ф–∞—В—Б–Ї–Є–є –њ—А–Є–љ—Ж, –≤ –Ї–µ–њ–Ї–µ —Б–≤–Њ–µ–є —З–µ–Ї–Є—Б—В—Б–Ї–Њ–є?
–Э–∞–Љ –ї–Є –њ—Г–≥–∞—В—М —Б–Ї–≤–Њ—А—Ж–Њ–≤, –≥—А–∞–є –њ–Њ–і–љ–Є–Љ–∞—В—М –≤–Њ—А–Њ–љ–Є–є?!
–Т—Б–µ –Љ—Л –≤ –Ї–Њ–љ—Ж–µ –Ї–Њ–љ—Ж–Њ–≤ вАУ –Ї–∞–Ї –Ј–∞ —Е–Њ–ї—Б—В–Њ–Љ –Я–Њ–ї–Њ–љ–Є–є.
–Э–∞–Љ –ї–Є —Н–њ–Њ—Е—Г –≥–љ—Г—В—М, –Ї—А–∞—Б–љ—Л–Љ –Ї—А–Њ–њ–Є—В—М –і–Њ—А–Њ–ґ–Ї—Г?!
–Ф–∞–є –Њ—В –і—Г—И–Є –≤–і–Њ—Е–љ—Г—В—М вАУ –≥–і–µ-—В–Њ –њ–µ–Ї—Г—В –Ї–∞—А—В–Њ—И–Ї—Г!
–У—Г—Б—В–Њ –љ–µ—Б–µ—В –Ј–Њ–ї–Њ–є, –Њ–Ї–љ–∞ –≤—Б–Ї—А—Л–≤–∞—О—В —Б —Е—А—Г—Б—В–Њ–ЉвА¶
–Ъ–∞–Љ–µ–љ—М —Б –і—Г—И–Є –і–Њ–ї–Њ–є. –Ъ–∞–Ї-—В–Њ —Б–≤–µ—В–ї–Њ –Є –њ—Г—Б—В–Њ.
* * *
–Я–Њ–µ–Ј–і —Г—И–µ–ї. –Ф–∞–ґ–µ –і–∞–ї—М –љ–µ –і—А–Њ–ґ–Є—В - —В–Є—И–Є–љ–∞.
–Ґ—П–љ–µ—В —Б –Є—Б–њ—Г–≥—Г –њ—Г—Б—В–Є—В—М—Б—П –≤–і–Њ–≥–Њ–љ–Ї—Г –њ–Њ —И–њ–∞–ї–∞–ЉвА¶
–°—В–Њ–Є—В –ї–Є —В—Й–Є—В—М—Б—П —В–Њ–Љ—Г, —З—М—П —Б—Г–і—М–±–∞ —А–µ—И–µ–љ–∞?
–Я—А–∞–≤–Њ, –љ–µ –ї—Г—З—И–µ –ї—М, —Б–Љ–Є—А–Є–≤—И–Є—Б—М, —Г—В–µ—И–Є—В—М—Б—П –Љ–∞–ї—Л–Љ?
–Я—Л–ї—М–љ–Њ–є —А–Њ–Љ–∞—И–Ї–Њ–є, –±–Њ–ї–Њ—В–Є–љ–Њ–є —Б —А–ґ–∞–≤–Њ–є –≤–Њ–і–Њ–є,
—Е–Є–ї–Њ–є –≤–µ—В–ї–Њ–є, —З—В–Њ, –≤–µ—Б–љ—Г —А–∞–Ј–ї—О–±–Є–≤, –љ–∞–і–ї–Њ–Љ–Є–ї–∞—Б—МвА¶
–°–Є–љ–µ–≥–Њ –љ–µ–±–∞ –љ–∞–і –ї–µ—Б–Њ–Љ –Ї—Г—Б–Њ–Ї –і–∞—А–Љ–Њ–≤–Њ–є
–і–ї—П –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞—О—Й–Є—Е вАУ —З–µ–Љ –љ–µ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ—П—П –Љ–Є–ї–Њ—Б—В—М?!
–Ъ—В–Њ –µ–≥–Њ –Ј–љ–∞–µ—В, —З—В–Њ –љ–∞—Б –њ–Њ –њ—А–Є–±—Л—В–Є–Є –ґ–і–µ—В!
(–І—В–Њ –µ—Б–ї–Є вАУ —Б –і–ї–Є–љ–љ–Њ–є –Ї–Њ—Б–Њ—О –±–µ–Ј–љ–Њ—Б–∞—П –і–µ–≤–∞?)
–Р—Е, —Н—В–Њ—В –њ–Њ–µ–Ј–і, —Г–Љ–µ—О—Й–Є–є —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤–њ–µ—А–µ–і,
–Є –њ–Њ–≤–µ—А–љ—Г—В—М –љ–µ –Є–Љ–µ—О—Й–Є–є –њ—А–∞–≤–∞ –љ–∞–ї–µ–≤–Њ!
–Р—Е, –Ї–Њ—З–µ–≥–∞—А —Н—В–Њ—В, –ї—О–±—П—Й–Є–є –ґ–∞—А—Г –њ–Њ–і–і–∞—В—М,
—Б –Ї—А–∞—Б–љ—Л–Љ –ї–Є—Ж–Њ–Љ, –њ–Њ—В–µ–Љ–љ–µ–≤—И–Є–Љ –Њ—В —Г–≥–Њ–ї—М–љ–Њ–є –њ—Л–ї–Є!
–Ґ–Њ—В, –і–ї—П –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –≤ –±–µ–Ј–і–љ—Г –ї–µ—В–µ—В—М вАУ –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—В—М.
–Ґ–Њ—В, –Њ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ –≤ –≤–∞–≥–Њ–љ–∞—Е, –њ–Њ—Е–Њ–ґ–µ, –Ј–∞–±—Л–ї–Є.
–Я—А–∞–≤–Њ –љ–µ –ї—Г—З—И–µ –ї—М –≤ –Њ—В—Б—В–∞–≤—И–Є—Е –Њ—В –њ–Њ–µ–Ј–і–∞ –љ–∞–Љ
—З–Є—Б–ї–Є—В—М—Б—П –Ј–і–µ—Б—М, —Б–Њ–≥—А–µ–≤–∞—П—Б—М –Њ–≥–љ–µ–Љ –Є–Ј –±—Г—В—Л–ї–Є,
—З–µ–Љ –Ї–Њ—З–µ–≥–∞—А —Н—В–Њ—В –≤–µ—З–љ–Њ —Б–Љ–µ—О—Й–Є–є—Б—П —В–∞–Љ,
–≤ –њ—Г–љ–Ї—В–µ –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ–Љ, –Њ–±—К—П–≤–Є—В —Б –Є–Ј–і–µ–≤–Ї–Њ–є: ¬Ђ–Я—А–Є–њ–ї—Л–ї–Є!¬ї