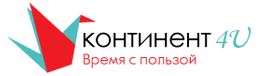–õ–ė–Ę–ē–†–ź–Ę–£–†–Ě–ź–Į –°–Ę–†–ź–Ě–ė–¶–ź

–ź–Ľ–Ķ–ļ—Ā–į–Ĺ–ī—Ä –Į–ö–ě–í–õ–ē–í
–†–į—Ā—Ā–ļ–į–∑—č
–ě–Ę –°–ě–°–Ę–ź–í–ė–Ę–ē–õ–Į:
–°–Ķ–≥–ĺ–ī–Ĺ—Ź —É –Ĺ–į—Ā –Ĺ–ĺ–≤–į—Ź –≤—Ā—ā—Ä–Ķ—á–į —Ā –Ņ—Ä–ĺ–∑–į–ł–ļ–ĺ–ľ –ł –∂—É—Ä–Ĺ–į–Ľ–ł—Ā—ā–ĺ–ľ –ź–Ľ–Ķ–ļ—Ā–į–Ĺ–ī—Ä–ĺ–ľ –Į–ļ–ĺ–≤–Ľ–Ķ–≤—č–ľ, –į–≤—ā–ĺ—Ä–ĺ–ľ –ļ–Ĺ–ł–≥ –Ņ—Ä–ĺ–∑—č ¬ę–í—Ā–Ķ, —á—ā–ĺ –ľ—č –∑–į–Ņ–ĺ–ľ–Ĺ–ł–ľ¬Ľ, ¬ę–ü–Ķ—ą–ļ–ĺ–ľ –ł–∑-–Ņ–ĺ–ī —Ā—ā–ĺ–Ľ–į¬Ľ, ¬ę–ě—Ā–Ķ–Ĺ–Ĺ—Ź—Ź –∂–Ķ–Ĺ—Č–ł–Ĺ–į¬Ľ, –ľ–Ĺ–ĺ–≥–ĺ—á–ł—Ā–Ľ–Ķ–Ĺ–Ĺ—č—Ö –Ņ—É–Ī–Ľ–ł–ļ–į—Ü–ł–Ļ –≤ –Ņ–Ķ—Ä–ł–ĺ–ī–ł—á–Ķ—Ā–ļ–ĺ–Ļ –Ņ–Ķ—á–į—ā–ł –ł –ī–≤—É—Ö –ī–Ķ—Ā—Ź—ā–ļ–ĺ–≤ –Ņ–Ķ—Ä–Ķ–≤–ĺ–ī–ĺ–≤ (–ī–Ķ—ā–Ķ–ļ—ā–ł–≤—č, —Ą–į–Ĺ—ā–į—Ā—ā–ł–ļ–į). –ü—Ä–ĺ–∑–į –ź–Ľ–Ķ–ļ—Ā–į–Ĺ–ī—Ä–į –Į–ļ–ĺ–≤–Ľ–Ķ–≤–į –≤—č—Ö–ĺ–ī–ł–Ľ–į –≤ –Ē–į–Ĺ–ł–ł, –ö–ł—ā–į–Ķ, –§–ł–Ĺ–Ľ—Ź–Ĺ–ī–ł–ł, –°–®–ź –ł –ī—Ä—É–≥–ł—Ö —Ā—ā—Ä–į–Ĺ–į—Ö. –ě–Ĺ –Ľ–į—É—Ä–Ķ–į—ā –Ņ—Ä–Ķ–ľ–ł–ł ¬ę–Į—Ā–Ĺ–į—Ź –Ņ–ĺ–Ľ—Ź–Ĺ–į¬Ľ –ł–ľ–Ķ–Ĺ–ł –õ.–Ě. –Ę–ĺ–Ľ—Ā—ā–ĺ–≥–ĺ –∑–į 2004 –ł 2005 –≥–ĺ–ī—č. –í –Ĺ–į—Ā—ā–ĺ—Ź—Č–Ķ–Ķ –≤—Ä–Ķ–ľ—Ź –∂–ł–≤—Ď—ā –≤ –ú–ĺ—Ā–ļ–≤–Ķ, —Ä–į–Ī–ĺ—ā–į–Ķ—ā —Ä–Ķ–ī–į–ļ—ā–ĺ—Ä–ĺ–ľ –ĺ—ā–ī–Ķ–Ľ–į –Ľ–ł—ā–Ķ—Ä–į—ā—É—Ä—č ¬ę–õ–ł—ā–Ķ—Ä–į—ā—É—Ä–Ĺ–ĺ–Ļ –≥–į–∑–Ķ—ā—謼.
–°–Ķ–ľ–Ķ–Ĺ –ö–į–ľ–ł–Ĺ—Ā–ļ–ł–Ļ,
newproza@gmail.com
–Ė–ź–†–ē–Ě–ę–ē –ź–Ě–ź–Ě–ź–°–ę
–†–į–∑ –≤ –≥–ĺ–ī, –Ņ—Ä–ł–Ī–Ķ—Ä–Ķ–≥–į—Ź —ć—ā–ĺ —Ā–ĺ–Ī—č—ā–ł–Ķ –ļ –ĺ—ā–Ņ—É—Ā–ļ—É, –ľ–ĺ–Ļ –ľ–ł–Ľ—č–Ļ –ł –Ĺ–Ķ–∑–Ľ–ĺ–Ī–ł–≤—č–Ļ –ü–Ķ—ā—Ä–ĺ–≤ –≤–∑—Ä—č–≤–į–Ľ—Ā—Ź. –ė —ā–ĺ–≥–ī–į –ĺ–Ĺ —Ā–į–ī–ł–Ľ—Ā—Ź –≤ –Ņ–ĺ–Ķ–∑–ī, –≥–ī–Ķ —Ā—ā–ĺ–Ľ—Ć–ļ–ĺ —á—É–∂–ł—Ö –≥–Ľ–į–∑, —á—ā–ĺ —Ā–į–ľ —Ā–Ķ–Ī–Ķ —Ā—ā–į–Ĺ–ĺ–≤–ł—ą—Ć—Ā—Ź –ł–Ĺ—ā–Ķ—Ä–Ķ—Ā–Ķ–Ĺ, –ł –ĺ—ā–Ņ—Ä–į–≤–Ľ—Ź–Ľ—Ā—Ź –≤ –ļ—Ä–ĺ—Ö–ĺ—ā–Ĺ—č–Ļ –≥–ĺ—Ä–ĺ–ī–ł—ą–ļ–ĺ –≤ —Ü–Ķ–Ĺ—ā—Ä–Ķ –†–ĺ—Ā—Ā–ł–ł. –ź –ļ–ĺ—Ä–ĺ—á–Ķ ‚ÄĒ –Ĺ–į —Ä–ĺ–ī–ł–Ĺ—É. –Ę–į–ľ –ł –ī–ĺ—á–ļ–į –Ķ–≥–ĺ –∂–ł–Ľ–į.
–ü–ĺ–ī —Ā—ā—É–ļ –ļ–ĺ–Ľ–Ķ—Ā –ī–į –Ņ–ĺ–ī –Ī–Ķ—Ā–ļ–ĺ–Ĺ–Ķ—á–Ĺ—č–Ķ –Ľ–Ķ—Ā–į-–Ņ–ĺ–Ľ—Ź –∑–į –ĺ–ļ–Ĺ–ĺ–ľ –ī—É–ľ–į–Ľ–ĺ—Ā—Ć –ü–Ķ—ā—Ä–ĺ–≤—É –Ņ—Ä–ł–ľ–Ķ—Ä–Ĺ–ĺ —ā–į–ļ: ¬ę–Ě–į–ī–ĺ –∂–Ķ, –ľ–į–Ľ–Ķ–Ĺ—Ć–ļ–ł–Ļ –≥–ĺ—Ä–ĺ–ī–ĺ–ļ. –Ē–į–∂–Ķ –ī–ĺ–∂–ī–Ķ–ľ –Ķ–≥–ĺ –Ĺ–Ķ —É—Ā–Ņ–Ķ–≤–į–Ķ—ā –Ņ—Ä–ĺ–ľ–ĺ—á–ł—ā—Ć, —ā–į–ļ –Ī—č—Ā—ā—Ä–ĺ –ó–Ķ–ľ–Ľ—Ź –Ķ–≥–ĺ –Ņ–ĺ–ī —ā—É—á–į–ľ–ł –Ņ—Ä–ĺ–Ĺ–ĺ—Ā–ł—ā... –ź –≤ –Ĺ–Ķ–ľ ‚ÄĒ –≥–ī–Ķ –ł –ľ–Ķ—Ā—ā–ĺ –Ĺ–į—ą–Ľ–ĺ—Ā—Ć? ‚ÄĒ –ī–ĺ—á–ļ–į. –ú–į–Ľ–Ķ–Ĺ—Ć–ļ–į—Ź. –í—Ā—Ź-—ā–ĺ —Ā –ľ–ĺ–Ķ —Ā–Ķ—Ä–ī—Ü–Ķ...¬Ľ.
–ź –Ķ—Č–Ķ –ī—É–ľ–į–Ľ–ĺ—Ā—Ć –ü–Ķ—ā—Ä–ĺ–≤—É –Ī–Ķ—Ā–Ņ–ĺ–ļ–ĺ–Ļ–Ĺ–ĺ, —á—ā–ĺ –Ĺ–Ķ –Ī—č–Ľ –ĺ–Ĺ –Ĺ–į —Ä–ĺ–ī–ł–Ĺ–Ķ –Ľ–Ķ—ā –ī–≤–Ķ—Ā—ā–ł. –ė–Ľ–ł –ĺ–ļ–ĺ–Ľ–ĺ —ā–ĺ–≥–ĺ. –ė –ļ–į–ļ —ā–į–ľ —ā–Ķ–Ņ–Ķ—Ä—Ć?
–Ě–į —Ā–į–ľ–ĺ–ľ –∂–Ķ –ī–Ķ–Ľ–Ķ –Ņ—Ä–ĺ—ą–Ķ–Ľ –≤—Ā–Ķ–≥–ĺ –Ľ–ł—ą—Ć –≥–ĺ–ī —Ā –Ņ–ĺ—Ā–Ľ–Ķ–ī–Ĺ–Ķ–≥–ĺ –Ķ–≥–ĺ –≤–ł–∑–ł—ā–į. –Ē–į —ā–Ķ –ļ–ł–Ľ–ĺ–ľ–Ķ—ā—Ä—č, —á—ā–ĺ –ľ–Ķ–∂–ī—É –ü–Ķ—ā—Ä–ĺ–≤—č–ľ –ł –ī–ĺ—á–ļ–ĺ–Ļ, –Ņ—Ä–ł–Ņ–Ľ—é—Ā–ĺ–≤–į—ā—Ć. –í–ĺ—ā –ł –Ņ–ĺ–Ľ—É—á–ł—ā—Ā—Ź –ī–≤–Ķ—Ā—ā–ł –Ľ–Ķ—ā. –ě–ī–Ĺ–į –ł–∑ —ā–Ķ—Ö –ľ–į–Ľ–Ķ–Ĺ—Ć–ļ–ł—Ö –Ĺ–Ķ–Ņ—Ä–į–≤–ī, —á—ā–ĺ –Ī—č–Ľ–ł —ā–į–ļ –Ľ—é–Ī–Ķ–∑–Ĺ—č –Ķ–≥–ĺ —Ā–Ķ—Ä–ī—Ü—É.
–ü–ĺ–Ķ–∑–ī, –ļ–į–ļ –ł –ĺ–Ī–Ķ—Č–į–Ľ–ĺ —Ä–į—Ā–Ņ–ł—Ā–į–Ĺ–ł–Ķ, –ī–ĺ—Ā—ā–į–≤–ł–Ľ –Ķ–≥–ĺ –≤ –Ņ–ĺ–Ľ–ĺ–∂–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ–Ķ –≤—Ä–Ķ–ľ—Ź –ł –ľ–Ķ—Ā—ā–ĺ, –ĺ—Ā–≤–ĺ–Ī–ĺ–ī–ł–Ľ—Ā—Ź –ĺ—ā –ü–Ķ—ā—Ä–ĺ–≤–į –ł, –ĺ–Ī–Ľ–Ķ–≥—á–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ –ĺ—ā–ī—É–≤–į—Ź—Ā—Ć, –ī–≤–ł–Ĺ—É–Ľ—Ā—Ź –ī–į–Ľ—Ć—ą–Ķ, –≤–Ķ–∑—Ź –ĺ—Ā—ā–į–Ľ—Ć–Ĺ—č—Ö.
–Ę–ĺ–Ľ—Ć–ļ–ĺ –Ĺ–į –Ņ—Ä–ł–≤–ĺ–ļ–∑–į–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ–Ļ –Ņ–Ľ–ĺ—Č–į–ī–ł –ü–Ķ—ā—Ä–ĺ–≤ –Ņ–ĺ–∑–≤–ĺ–Ľ–ł–Ľ —Ā–Ķ–Ī–Ķ —É–≤–ł–ī–Ķ—ā—Ć, —á—ā–ĺ –≥–ĺ—Ä–ĺ–ī–ĺ–ļ –≤—Ā–Ķ –∂–Ķ —á—É—ā—Ć –Ņ–ĺ–Ī–ĺ–Ľ—Ć—ą–Ķ, —á–Ķ–ľ –Ņ–ĺ–ľ–Ķ—Č–į–≤—ą–ł–Ļ—Ā—Ź –≤ –Ņ–į–ľ—Ź—ā–ł. –Ě–ĺ –ł–Ĺ–į—á–Ķ –ü–Ķ—ā—Ä–ĺ–≤—É –Ī—č–Ľ–ĺ –Ī—č —ā—Ä—É–ī–Ĺ–ĺ –Ľ—é–Ī–ł—ā—Ć –Ķ–≥–ĺ —Ü–Ķ–Ľ–ł–ļ–ĺ–ľ.
–ė –≤—Ā–Ķ —ā–į–ļ –∂–Ķ –Ĺ–į –Ņ—Ä–ł–≤–ĺ–ļ–∑–į–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ–Ļ –Ņ–Ľ–ĺ—Č–į–ī–ł –Ņ–į—Ö–Ľ–ĺ —Ā–≤–Ķ–∂–ł–ľ –ł —ā–Ķ–Ņ–Ľ—č–ľ —Ö–Ľ–Ķ–Ī–ĺ–ľ –ł–∑ —Ā–ĺ—Ā–Ķ–ī–Ĺ–Ķ–Ļ –Ī—É–Ľ–ĺ—á–Ĺ–ĺ–Ļ.
‚ÄĒ –Ě—É —á—ā–ĺ, –≥–ĺ—Ä–ĺ–ī-–≥–ĺ—Ä–ĺ–ī–ł—ą–ļ–ĺ, ‚ÄĒ —Ā–ļ–į–∑–į–Ľ –ü–Ķ—ā—Ä–ĺ–≤, –≥–Ľ—Ź–ī—Ź –Ĺ–į —ą—É—Ā—ā—Ä—č—Ö –≤–ĺ—Ä–ĺ–Ī—Ć–Ķ–≤, –Ľ–ĺ–≤–ļ–ĺ –ĺ—Ä—É–ī—É—é—Č–ł—Ö —Ā—Ä–Ķ–ī–ł —á–ĺ–Ņ–ĺ—Ä–Ĺ—č—Ö, —Ā –≥–ĺ—Ä–ĺ–ī—Ā–ļ–ĺ–Ļ –Ņ—Ä–ĺ–Ņ–ł—Ā–ļ–ĺ–Ļ, –≥–ĺ–Ľ—É–Ī–Ķ–Ļ. ‚ÄĒ –ü–ĺ–ľ–Ĺ–ł—ā—Ā—Ź –ľ–Ĺ–Ķ, —ā—č –ī–ĺ–≤–ĺ–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ —Ā–Ĺ–ł—Ā—Ö–ĺ–ī–ł—ā–Ķ–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ –Ņ–ĺ—Ā–ľ–į—ā—Ä–ł–≤–į–Ľ –Ĺ–į –ü–Ķ—ā—Ä–ĺ–≤–į-–ľ–į–Ľ—Ć—á—É–≥–į–Ĺ–į, –į –ľ–ĺ–ł —ą–Ķ—Ā—ā–Ĺ–į–ī—Ü–į—ā—Ć –Ľ–Ķ—ā –≤–Ĺ—É—ą–į–Ľ–ł —ā–Ķ–Ī–Ķ –Ņ–ĺ–ī–ĺ–∑—Ä–Ķ–Ĺ–ł—Ź, –Ĺ–Ķ —ā–į–ļ –Ľ–ł? –ö–į–ļ —ć—ā–ĺ –Ĺ–Ķ—ā?! –Į –Ņ—Ä–Ķ–ļ—Ä–į—Ā–Ĺ–ĺ –Ņ–ĺ–ľ–Ĺ—é, –ļ–į–ļ —ā—č –ī—Ä–ĺ–∂–į–Ľ –∑–į —Ā–≤–ĺ–ł —Ā—ā–Ķ–ļ–Ľ–į –ł –ĺ–Ī–Ķ—Ä–Ķ–≥–į–Ľ —Ā–≤–ĺ–ł—Ö –Ĺ–Ķ–Ņ–ĺ—Ä–ĺ—á–Ĺ—č—Ö –ī–Ķ–≤... –í—Ā–Ņ–ĺ–ľ–Ĺ–ł–Ľ? –Ę–ĺ-—ā–ĺ. –Ě—É –ł –Ľ–į–ī–Ĺ–ĺ. –ö—ā–ĺ —Ā—ā–į—Ä–ĺ–Ķ –Ņ–ĺ–ľ—Ź–Ĺ–Ķ—ā...
–Ě–Ķ—Ā–ľ–ĺ—ā—Ä—Ź –Ĺ–į —Ā—ā–ĺ–Ľ—Ć –ĺ–Ī–Ĺ–į–ī–Ķ–∂–ł–≤–į—é—Č–Ķ–Ķ –Ĺ–į—á–į–Ľ–ĺ, –ľ–Ķ—Ā—ā –≤ –≥–ĺ—Ā—ā–ł–Ĺ–ł—Ü–Ķ –Ĺ–Ķ –ĺ–ļ–į–∑–į–Ľ–ĺ—Ā—Ć, –į –ł–ī—ā–ł —Ā—Ä–į–∑—É –ļ –ī–ĺ—á–ļ–Ķ, –Ĺ–Ķ –ĺ—Ā–ľ–ĺ—ā—Ä–Ķ–≤—ą–ł—Ā—Ć –≤ –≥–ĺ—Ä–ĺ–ī–ļ–Ķ, –ĺ—Ā–Ĺ–ĺ–≤–į—ā–Ķ–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ–ľ—É –ü–Ķ—ā—Ä–ĺ–≤—É –Ĺ–Ķ —Ö–ĺ—ā–Ķ–Ľ–ĺ—Ā—Ć.
‚ÄĒ –í—č –≤–Ķ–ī—Ć –Ĺ–Ķ –≤ –ļ–ĺ–ľ–į–Ĺ–ī–ł—Ä–ĺ–≤–ļ—É? ‚ÄĒ —Ā–Ņ—Ä–ĺ—Ā–ł–Ľ–į –ł–∑-–∑–į —Ā—ā–ĺ–Ļ–ļ–ł –∂–Ķ–Ĺ—Č–ł–Ĺ–į, —É—Ā—ā–į–Ľ–į—Ź –ĺ—ā –ī–ĺ–Ľ–≥–ĺ–Ļ —ā–į–ļ–ĺ–Ļ —Ä–į–Ī–ĺ—ā—č.
‚ÄĒ –Ě–Ķ—ā, ‚ÄĒ —Ā–ļ–į–∑–į–Ľ –ü–Ķ—ā—Ä–ĺ–≤. –ė –Ņ–ĺ—á–Ķ–ľ—É-—ā–ĺ —Ä–Ķ—ą–ł–≤, —á—ā–ĺ –ĺ–Ĺ –ĺ—á–Ķ–Ĺ—Ć –Ľ–ĺ–≤–ĺ–ļ –≤ –ĺ–Ī—Ä–į—Č–Ķ–Ĺ–ł–ł —Ā –∂–Ķ–Ĺ—Č–ł–Ĺ–į–ľ–ł, —Ā–Ņ—Ä–ĺ—Ā–ł–Ľ: ‚ÄĒ –ź –ľ—č –Ĺ–Ķ –ľ–ĺ–≥–Ľ–ł –≤–ľ–Ķ—Ā—ā–Ķ —É—á–ł—ā—Ć—Ā—Ź?
–Ė–Ķ–Ĺ—Č–ł–Ĺ–į –Ņ—Ä–ł–≤—č—á–Ĺ–ĺ –Ĺ–ł—á–Ķ–≥–ĺ –Ĺ–Ķ –ĺ—ā–≤–Ķ—ā–ł–Ľ–į. –Ē–ĺ–Ľ–∂–Ĺ–ĺ –Ī—č—ā—Ć, —Ā–ľ—É—ā–ł–Ľ–į—Ā—Ć, –ļ–į–ļ –Ľ–Ķ—Ā—ā–Ĺ–ĺ –Ņ–ĺ–ī—É–ľ–į–Ľ –Ņ—Ä–ĺ —Ā–Ķ–Ī—Ź –ü–Ķ—ā—Ä–ĺ–≤. –ė –≤ —Ä–Ķ–∑—É–Ľ—Ć—ā–į—ā–Ķ –ĺ–ļ–į–∑–į–Ľ—Ā—Ź —Ā–ł–ī—Ź—Č–ł–ľ –≤ —Ā–ļ–≤–Ķ—Ä–ł–ļ–Ķ —É –≥–ĺ—Ā—ā–ł–Ĺ–ł—Ü—č, –≤ –ĺ–Ī—Č–Ķ—Ā—ā–≤–Ķ —é–Ĺ–ĺ–≥–ĺ –≥–ł–Ņ—Ā–ĺ–≤–ĺ–≥–ĺ –≥–ĺ—Ä–Ĺ–ł—Ā—ā–į, –≥–ĺ—Ä–Ĺ –ļ–ĺ—ā–ĺ—Ä–ĺ–≥–ĺ –Ī—č–Ľ –ĺ—ā–Ī–ł—ā —É —Ā–į–ľ—č—Ö –≥—É–Ī.
‚ÄĒ –Ē–ĺ–Ľ–∂–Ĺ–ĺ –Ī—č—ā—Ć, —Ą–į–Ľ—Ć—ą–ł–≤–ł–Ľ, –Ī—Ä–į—ā, ‚ÄĒ —Ä–į—Ā—Ā—É–ī–ł–Ľ –ü–Ķ—ā—Ä–ĺ–≤.
–ź –≤–ĺ–ĺ–Ī—Č–Ķ, —Ö–ĺ—Ä–ĺ—ą–Ķ–Ķ –Ĺ–į—Ā—ā—Ä–ĺ–Ķ–Ĺ–ł–Ķ –Ĺ–ł–ļ–ĺ–≥–ī–į –Ķ–≥–ĺ –Ĺ–Ķ –Ņ–ĺ–ļ–ł–ī–į–Ľ–ĺ. –Ē–į–∂–Ķ –Ķ—Ā–Ľ–ł —á—ā–ĺ-—ā–ĺ –ł —Ā–Ľ—É—á–į–Ľ–ĺ—Ā—Ć, –Ķ–ľ—É –ī–ĺ—Ā—ā–į—ā–ĺ—á–Ĺ–ĺ –Ī—č–Ľ–ĺ –Ņ—Ä–ł–∑–≤–į—ā—Ć –Ĺ–į –Ņ–ĺ–ľ–ĺ—Č—Ć –≤—Ā–Ķ–≥–ĺ –Ľ–ł—ą—Ć –ļ–į–Ņ–Ľ—é –≤–ĺ–ĺ–Ī—Ä–į–∂–Ķ–Ĺ–ł—Ź –ł–Ľ–ł –Ĺ–Ķ–≥—Ä–ĺ–ľ–ļ–ĺ, –Ņ–ĺ—á—ā–ł –Ņ—Ä–ĺ —Ā–Ķ–Ī—Ź –∑–į—Ā–≤–ł—Ā—ā–Ķ—ā—Ć —á—ā–ĺ-–Ĺ–ł–Ī—É–ī—Ć, –Ĺ–į–Ņ—Ä–ł–ľ–Ķ—Ä: ¬ę–Ě–Ķ –Ņ—Ä–ĺ–Ī—É–∂–ī–į–Ļ –≤–ĺ—Ā–Ņ–ĺ–ľ–ł–Ĺ–į–Ĺ–ł–Ļ...¬Ľ. –ė –≤—Ā–Ķ.
‚ÄĒ –ź –ł —ā–ĺ —Ā–ļ–į–∑–į—ā—Ć, ‚ÄĒ –Ņ—Ä–ĺ–ī–ĺ–Ľ–∂–ł–Ľ –ü–Ķ—ā—Ä–ĺ–≤, ‚ÄĒ –ĺ —á–Ķ–ľ —ā—É—ā —ā—Ä—É–Ī–ł—ā—Ć? –í–∑—Ź–Ľ –Ī—č —Ź —ā–Ķ–Ī—Ź —Ā —Ā–ĺ–Ī–ĺ–Ļ –≤ —ā–į–Ļ–≥—É... –í–ĺ—ā —ā–į–ľ, –Ī—Ä–į—ā, —Ā–ĺ–≤—Ā–Ķ–ľ –ī—Ä—É–≥–ĺ–Ķ –ī–Ķ–Ľ–ĺ. –Ě—É, —Ā–ĺ–≤—Ā–Ķ–ľ –ī—Ä—É–≥–ĺ–Ķ. –Ę—Ä—É–Ī–ł, —Ā–ļ–ĺ–Ľ—Ć–ļ–ĺ –ī—É—ą–į –Ņ–ĺ–∂–Ķ–Ľ–į–Ķ—ā. –Ē–Ķ—Ä–Ķ–≤—Ć–Ķ–≤ –ľ–Ĺ–ĺ–≥–ĺ, –į –Ņ–ĺ–ī –Ĺ–ł–ľ–ł –∑–≤–Ķ—Ä—Ć—Ź –ł –Ņ—ā–ł—Ü—č –Ņ–ĺ–ļ–į –Ĺ–Ķ –Ņ–Ķ—Ä–Ķ–≤–Ķ–Ľ–ĺ—Ā—Ć. –Ě–į–Ļ–ī–Ķ—ā—Ā—Ź –ł –ī–Ľ—Ź —ā–≤–ĺ–ł—Ö –∑–≤—É–ļ–ĺ–≤ –ľ–Ķ—Ā—ā–ĺ. –ė –Ĺ–ł–ļ–ĺ–ľ—É –Ĺ–Ķ –Ņ–ĺ–ľ–Ķ—ą–į–Ķ—ą—Ć. –Ď–ĺ–Ľ—Ć—ą–Ķ —ā–ĺ–≥–ĺ ‚ÄĒ —Ā—ā–į–Ĺ–Ķ—ą—Ć –Ī—É–ī–ł—ā—Ć —Ä–į–Ĺ–ĺ, —ā–ĺ–Ľ—Ć–ļ–ĺ —Ā–Ņ–į—Ā–ł–Ī–ĺ —Ā–ļ–į–∂—É—ā. –ü—Ä–į–≤–ī–į! –ė –ľ–Ķ—Ā—ā–į —É –Ĺ–į—Ā ‚ÄĒ –ļ—Ä–į—ą–Ķ –Ĺ–Ķ –Ī—č–≤–į–Ķ—ā. –°–į–ľ –Ņ–ĺ—Ā—É–ī–ł: –ī–į–∂–Ķ —Ā–ĺ–Ľ–Ĺ—Ü–Ķ –ĺ—ā—ā—É–ī–į –≤–ĺ—Ā—Ö–ĺ–ī–ł—ā ‚ÄĒ —ć—ā–ĺ —á—ā–ĺ, —ą—É—ā–ļ–ł? –ü—Ä–į–≤–ī–į, ‚ÄĒ –ī–ĺ–Ī–į–≤–ł–Ľ –ü–Ķ—ā—Ä–ĺ–≤, –Ņ–ĺ–Ĺ–ł–∑–ł–≤ –≥–ĺ–Ľ–ĺ—Ā, ‚ÄĒ –Ņ–ĺ—Ā–Ľ–Ķ–ī–Ĺ–Ķ–Ķ –≤—Ä–Ķ–ľ—Ź –Ķ–≥–ĺ, —Ā–ĺ–Ľ–Ĺ—Ü–Ķ, –Ņ—Ä–ł—Ö–ĺ–ī–ł—ā—Ā—Ź –ī–ĺ–Ľ–≥–ĺ —É–≥–ĺ–≤–į—Ä–ł–≤–į—ā—Ć. –ě–Ĺ–ĺ –ļ–į–Ņ—Ä–ł–∑–Ĺ–ł—á–į–Ķ—ā, –Ĺ–Ķ —Ö–ĺ—á–Ķ—ā –Ņ–ĺ–ī–Ĺ–ł–ľ–į—ā—Ć—Ā—Ź... –Ě–Ķ —Ā–ĺ–≤—Ā–Ķ–ľ, –Ņ—Ä–ł–∑–Ĺ–į—é—Ā—Ć, –Ņ—Ä–ł—Ź—ā–Ĺ–ĺ–Ķ –∑—Ä–Ķ–Ľ–ł—Č–Ķ... –ü—Ä–ł—Ö–ĺ–ī–ł—ā—Ā—Ź –≤—Ā–Ķ–ľ –Ĺ–į—Ä–ĺ–ī–ĺ–ľ –Ĺ–į–≤–į–Ľ–ł–≤–į—ā—Ć—Ā—Ź. –ź —ā–į–ļ –≤—Ā–Ķ —Ö–ĺ—Ä–ĺ—ą–ĺ. –Ę–į–ļ —á—ā–ĺ –Ņ–ĺ–ī—É–ľ–į–Ļ, –į —Ź –Ņ–ĺ–ļ–į ‚ÄĒ –Ņ–ĺ –ī–Ķ–Ľ–į–ľ.
–ė —ā–Ķ –ĺ—Ā—ā–į–≤—ą–ł–Ķ—Ā—Ź –ĺ—ā –ī–≤—É—Ö—Ā–ĺ—ā –ļ–ł–Ľ–ĺ–ľ–Ķ—ā—Ä–ĺ–≤ –Ĺ–Ķ—Ā–ļ–ĺ–Ľ—Ć–ļ–ĺ —Ā–ĺ—ā –ľ–Ķ—ā—Ä–ĺ–≤, —á—ā–ĺ –ĺ—ā–ī–Ķ–Ľ—Ź—é—ā –Ķ–≥–ĺ –ĺ—ā –ī–ĺ—á–ļ–ł, –ĺ–Ĺ –Ņ—Ä–ĺ—Ö–ĺ–ī–ł—ā —á—É—ā—Ć –Ľ–ł –Ĺ–Ķ –∑–į —á–į—Ā, –ĺ—ā–≤–Ľ–Ķ–ļ–į—Ź—Ā—Ć –Ĺ–į –≤—Ā–Ķ –ł –≤—Ā—Ź.
–Ē–≤–Ķ—Ä—Ć –ĺ—ā–ļ—Ä—č–≤–į–Ķ—ā –Ī—č–≤—ą–į—Ź –∂–Ķ–Ĺ–į –ł —Ā–Ņ–ĺ–ļ–ĺ–Ļ–Ĺ–ĺ, —Ā–Ľ–ĺ–≤–Ĺ–ĺ –ĺ–Ĺ–ł —Ä–į—Ā—Ā—ā–į–Ľ–ł—Ā—Ć —ā–ĺ–Ľ—Ć–ļ–ĺ –≤—á–Ķ—Ä–į, –≥–ĺ–≤–ĺ—Ä–ł—ā:
‚ÄĒ –ü—Ä–ł–≤–Ķ—ā. –ó–į—Ö–ĺ–ī–ł.
–ü–ĺ–ļ–į –ü–Ķ—ā—Ä–ĺ–≤ –∑–į—Ö–ĺ–ī–ł—ā, –ĺ–Ĺ –≤—Ā–Ņ–ĺ–ľ–ł–Ĺ–į–Ķ—ā, —á—ā–ĺ –∂–Ķ–Ĺ–į –Ķ–≥–ĺ –Ĺ–ł–ļ–ĺ–≥–ī–į –ł –Ĺ–ł—á–Ķ–ľ—É –Ĺ–Ķ —É–ī–ł–≤–Ľ—Ź–Ľ–į—Ā—Ć. –≠—ā–ĺ –≤—Ā–Ķ–≥–ī–į —Ā—ā–į–≤–ł–Ľ–ĺ –ü–Ķ—ā—Ä–ĺ–≤–į –≤ —ā—É–Ņ–ł–ļ. –Ė–ł—ā—Ć –≤ —ā—É–Ņ–ł–ļ–Ķ –Ķ–ľ—É –Ĺ–Ķ –Ĺ—Ä–į–≤–ł–Ľ–ĺ—Ā—Ć. –ü–ĺ—ć—ā–ĺ–ľ—É –ĺ–Ĺ–ł –ł —Ä–į–∑–ĺ—ą–Ľ–ł—Ā—Ć. –° —ā—É–Ņ–ł–ļ–ĺ–ľ –ł –∂–Ķ–Ĺ–ĺ–Ļ. –ź –Ĺ–Ķ –Ņ–ĺ—ā–ĺ–ľ—É, —Ā–ļ–į–∂–Ķ–ľ, —á—ā–ĺ –ĺ–Ĺ –Ī—č–Ľ –∂–į–ī–Ĺ—č–Ļ –ł–Ľ–ł –∑–Ľ–ĺ–Ļ, –ł–Ľ–ł –Ņ—Ć—Ź–Ĺ–ł—Ü–į.
–í –Ņ—Ä–ł—Ö–ĺ–∂–Ķ–Ļ, –į –Ņ–ĺ—ā–ĺ–ľ –≤ –ļ–ĺ–ľ–Ĺ–į—ā–Ķ –Ĺ–į—Ā—ā–į–Ķ—ā –ī–Ľ—Ź –ü–Ķ—ā—Ä–ĺ–≤–į –≤—Ä–Ķ–ľ—Ź –ī–ĺ—á–ļ–ł.
–ö–į–∂–ī—č–Ļ —Ä–į–∑, –Ņ—Ä–Ķ–∂–ī–Ķ, —á–Ķ–ľ –ĺ–Ī–Ĺ—Ź—ā—Ć—Ā—Ź, –ĺ–Ĺ–ł –ľ–ł–Ĺ—É—ā –Ņ—Ź—ā—Ć –ļ–ĺ—Ä—á–į—ā –ī—Ä—É–≥ –ī—Ä—É–≥—É —Ä–ĺ–∂–ł. –Ě–ł—á–Ķ–≥–ĺ —Ā–Ķ–Ī–Ķ, –≤–Ķ—Ā–Ķ–Ľ—č–Ķ —Ä–ĺ–∂–ł. –ü–ĺ—ā–ĺ–ľ —É–∂–Ķ –ü–Ķ—ā—Ä–ĺ–≤ –≥–ĺ–≤–ĺ—Ä–ł—ā:
‚ÄĒ –Ě—É, –∑–ī–ĺ—Ä–ĺ–≤–ĺ —á—ā–ĺ –Ľ–ł, —Ā–ĺ—Ā–ł—Ā–ļ–į.
‚ÄĒ –°–į–ľ —Ā–ĺ—Ā–ł—Ā–ļ–į, ‚ÄĒ –Ĺ–Ķ —Ā–ī–į–Ķ—ā—Ā—Ź –Ę–į–Ĺ–Ķ–ļ.
‚ÄĒ –≠—ā–ĺ –Ņ–ĺ—á–Ķ–ľ—É –∂–Ķ —Ź —Ā–ĺ—Ā–ł—Ā–ļ–į? ‚ÄĒ —É–ī–ł–≤–Ľ—Ź–Ķ—ā—Ā—Ź –ĺ–Ĺ.
‚ÄĒ –ź —Ź –Ņ–ĺ—á–Ķ–ľ—É? ‚ÄĒ –ł–∑—É–ľ–Ľ–Ķ–Ĺ–į –ĺ–Ĺ–į.
‚ÄĒ –ü–ĺ—ā–ĺ–ľ—É —á—ā–ĺ —ā—č –ľ–į–Ľ–Ķ–Ĺ—Ć–ļ–į—Ź, —ā–ĺ–Ľ—Ā—ā–Ķ–Ĺ—Ć–ļ–į—Ź –ł –≥–Ľ—É–Ņ–Ķ–Ĺ—Ć–ļ–į—Ź, ‚ÄĒ —Ā–ī–Ķ–Ľ–į–≤ –∂–į–Ľ–ĺ—Ā—ā–Ľ–ł–≤–ĺ–Ķ –Ľ–ł—Ü–ĺ, –Ņ–ĺ—Ź—Ā–Ĺ—Ź–Ķ—ā –ĺ–Ĺ.
‚ÄĒ –ź —ā—č –ī–Ľ–ł–Ĺ–Ĺ—č–Ļ, —Ö—É–ī–ĺ–Ļ –ł... —ā–ĺ–∂–Ķ, ‚ÄĒ –ĺ—ā–≤–Ķ—á–į–Ķ—ā –ĺ–Ĺ–į, –ī–Ķ–Ľ–į—Ź —ą–į–≥ –Ĺ–į–∑–į–ī.
‚ÄĒ –ß—ā–ĺ-–ĺ? ‚ÄĒ –≥—Ä–ĺ–∑–Ĺ–ĺ —Ö–ľ—É—Ä–ł—ā –Ī—Ä–ĺ–≤–ł –ü–Ķ—ā—Ä–ĺ–≤.
–ė –ī–ĺ—á–ļ–į, –≤—Ā–Ķ –Ķ—Č–Ķ –ľ–į–Ľ–Ķ–Ĺ—Ć–ļ–į—Ź, –Ĺ–Ķ—Ā–ľ–ĺ—ā—Ä—Ź –Ĺ–į –ī–ĺ–Ľ–≥–ł–Ķ —Ä–į–∑–Ľ—É–ļ–ł, —É–∂–Ķ –≥–ĺ—ā–ĺ–≤–į —Ö–ĺ—Ö–ĺ—ā–į—ā—Ć, –ļ—Ä–ł—á–į—ā—Ć, –Ī–Ķ–≥–į—ā—Ć. –Ě–ĺ –≤ –ļ–ĺ–ľ–Ĺ–į—ā—É –ł–∑ –ļ—É—Ö–Ĺ–ł –∑–į–≥–Ľ—Ź–ī—č–≤–į–Ķ—ā –Ī—č–≤—ą–į—Ź –∂–Ķ–Ĺ–į –ł –Ņ—Ä–Ķ—Ā–Ķ–ļ–į–Ķ—ā –Ī—É–Ļ—Ā—ā–≤–ĺ:
‚ÄĒ –ó–Ĺ–į—á–ł—ā —ā–į–ļ. –Ę—č, –Ľ—é–Ī–≤–Ķ–ĺ–Ī–ł–Ľ—Ć–Ĺ—č–Ļ –ĺ—ā–Ķ—Ü, –ł —ā—č, –ī–≤—É–Ĺ–ĺ–≥–į—Ź —á—É–ľ–į, –Ņ–ĺ–ļ–į –∂–į—Ä–ł—ā—Ā—Ź –ļ–į—Ä—ā–ĺ—ą–ļ–į...
–ü–Ķ—ā—Ä–ĺ–≤ –≤ —ć—ā–ĺ –≤—Ä–Ķ–ľ—Ź –≤–ł–ī–ł—ā –Ņ–Ķ—Ä–Ķ–ī —Ā–ĺ–Ī–ĺ–Ļ —ā–ĺ–Ľ—Ć–ļ–ĺ –ĺ–ī–Ĺ–ĺ–Ĺ–ĺ–≥—É—é ¬ę—á—É–ľ—ɬĽ. –í—ā–ĺ—Ä–į—Ź –Ĺ–ĺ–≥–į —É ¬ę—Ā–ĺ—Ā–ł—Ā–ļ–ł¬Ľ –Ņ–ĺ–ī–Ĺ—Ź—ā–į –ł –Ķ—Č–Ķ –Ĺ–Ķ –∑–Ĺ–į–Ķ—ā, –Ī–Ķ–∂–į—ā—Ć –Ķ–Ļ –ł–Ľ–ł –Ĺ–Ķ—ā.
‚ÄĒ ... –ł–ī–Ķ—ā–Ķ –≥—É–Ľ—Ź—ā—Ć, –Ĺ–ĺ –Ĺ–Ķ –ī–į–Ľ–Ķ–ļ–ĺ, –į —ā–ĺ –≤–į—Ā –Ĺ–Ķ –ī–ĺ–ļ—Ä–ł—á–ł—ą—Ć—Ā—Ź.
–ė –ĺ–Ĺ–ł –ł–ī—É—ā. –ü—Ä–ĺ–≥—É–Ľ–ļ–į, –Ņ–ĺ–Ĺ—Ź—ā–Ĺ–ĺ, –Ĺ–į—á–ł–Ĺ–į–Ķ—ā—Ā—Ź —Ā –∑–į—Ö–ĺ–ī–į –≤ –ľ–į–≥–į–∑–ł–Ĺ, –≥–ī–Ķ –∑–į–ļ—É–Ņ–į–Ķ—ā—Ā—Ź –ľ–į—Ā—Ā–į –≤–Ķ—Ā–Ķ–Ľ–ĺ–Ļ –ł —Ź—Ä–ļ–ĺ–Ļ —á–Ķ–Ņ—É—Ö–ł. –ó–į—ā–Ķ–ľ –ĺ–Ĺ–ł –Ĺ–į–≥—Ä—É–∂–Ķ–Ĺ–Ĺ—č–Ķ –≤–ĺ–∑–≤—Ä–į—Č–į—é—ā—Ā—Ź –≤–ĺ –ī–≤–ĺ—Ä, –≥–ī–Ķ –Ę–į–Ĺ–Ķ–ļ –Ĺ–į—á–ł–Ĺ–į–Ķ—ā –≤–ĺ–∑–Ĺ—é –≤ –ü–Ķ—Ā–ļ–Ķ, –į –ü–Ķ—ā—Ä–ĺ–≤ –∑–į–ľ–į–Ĺ–ł–≤–į–Ķ—ā –ĺ—á–Ķ—Ä–Ķ–ī–Ĺ—É—é –ľ—č—Ā–Ľ—Ć.
‚ÄĒ –Ę—č –≤–ĺ—ā —á—ā–ĺ –ľ–Ĺ–Ķ –ĺ–Ī—ä—Ź—Ā–Ĺ–ł, ‚ÄĒ –Ņ—Ä–ł–∑—č–≤–į–Ķ—ā –ü–Ķ—ā—Ä–ĺ–≤ –ī–ĺ—á–ļ—É. ‚ÄĒ –ü–ĺ—á–Ķ–ľ—É, –ļ–ĺ–≥–ī–į —Ź –Ī—č–Ľ —ā–į–ļ–ĺ–Ļ –∂–Ķ, –ļ–į–ļ –ł —ā—č, –Ņ–ĺ –≤–ĺ–∑—Ä–į—Ā—ā—É, —ā–ĺ –ł –ī–Ľ—Ź –ľ–Ķ–Ĺ—Ź –≤–ĺ–∑–Ĺ—Ź –≤ –Ņ–Ķ—Ā–ļ–Ķ –Ī—č–Ľ–į –Ĺ–Ķ–Ņ—É—Ā—ā—Ź—ą–Ĺ—č–ľ –∑–į–Ĺ—Ź—ā–ł–Ķ–ľ... –ź —ā–Ķ–Ņ–Ķ—Ä—Ć, –Ņ—Ä–ł –≤—Ā–Ķ–ľ –ľ–ĺ–Ķ–ľ —É–≤–į–∂–Ķ–Ĺ–ł–ł –ļ —ā–Ķ–Ī–Ķ, —Ź –Ĺ–Ķ –ľ–ĺ–≥—É –≤—Ā–Ņ–ĺ–ľ–Ĺ–ł—ā—Ć –ł –Ņ–ĺ–Ĺ—Ź—ā—Ć, —á—ā–ĺ –∂–Ķ —ā–į–ľ —ā–į–ļ–ĺ–≥–ĺ, –≤ —ć—ā–ĺ–ľ –Ņ–Ķ—Ā–ļ–Ķ, –Ī—č–Ľ–ĺ –≤–į–∂–Ĺ–ĺ–≥–ĺ? –ú–ĺ–Ľ—á–ł—ą—Ć? –í–ĺ—ā –ł –Ņ–ĺ–Ľ—É—á–į–Ķ—ā—Ā—Ź, —á—ā–ĺ –Ņ–į–ľ—Ź—ā—Ć –Ĺ–Ķ –≤—Ā–Ķ –Ĺ–į–ľ —Ā–ĺ—Ö—Ä–į–Ĺ—Ź–Ķ—ā –ł–∑ –ī–Ķ—ā—Ā—ā–≤–į. –ź –Ņ–ĺ—á–Ķ–ľ—É?
‚ÄĒ –ó–ĺ–≤—É—ā, ‚ÄĒ –ĺ—ā–≤–Ķ—á–į–Ķ—ā –Ę–į–Ĺ–Ķ–ļ, –Ņ–ĺ–ļ–į–∑—č–≤–į—Ź –Ĺ–į –ĺ–ļ–Ĺ–ĺ, –≤ –ļ–ĺ—ā–ĺ—Ä–ĺ–ľ –Ņ—Ä–ł–∑—č–≤–Ĺ–ĺ —Ā–Ķ–ľ–į—Ą–ĺ—Ä–ł—ā —Ä—É–ļ–į–ľ–ł –Ī—č–≤—ą–į—Ź –∂–Ķ–Ĺ–į.
‚ÄĒ –õ–į–ī–Ĺ–ĺ, –Ņ–ĺ—ą–Ľ–ł. –ü–ĺ–ĺ–Ī—Č–į–Ķ–ľ—Ā—Ź –≤—Ā–Ķ –≤–ľ–Ķ—Ā—ā–Ķ, –∑–į —Ā—ā–ĺ–Ľ–ĺ–ľ. –Ę–ĺ–∂–Ķ –ī–Ķ–Ľ–ĺ –Ĺ—É–∂–Ĺ–ĺ–Ķ...
‚ÄĒ –ü–ł—Ā—Ć–ľ–į —Ä–Ķ–≥—É–Ľ—Ź—Ä–Ĺ–ĺ –Ņ–ĺ–Ľ—É—á–į–Ķ—ą—Ć? ‚ÄĒ —Ā–Ņ—Ä–į—ą–ł–≤–į–Ķ—ā –ü–Ķ—ā—Ä–ĺ–≤, –ļ–ĺ–≥–ī–į –ĺ–Ĺ–ł —Ā –Ę–į–Ĺ—Ć–ļ–ĺ–ľ, –Ņ–ĺ–ľ—č–≤ —Ä—É–ļ–ł, —Ā–ł–ī—Ź—ā –∑–į —Ā—ā–ĺ–Ľ–ĺ–ľ.
‚ÄĒ –£–≥—É, ‚ÄĒ –≥–ĺ–≤–ĺ—Ä–ł—ā –Ę–į–Ĺ–Ķ–ļ —Ā –Ĺ–į–Ī–ł—ā—č–ľ —Ä—ā–ĺ–ľ.
‚ÄĒ –ź —á—ā–ĺ —ā–ĺ–Ľ–ļ—É, ‚ÄĒ –≤–ľ–Ķ—ą–ł–≤–į–Ķ—ā—Ā—Ź –Ī—č–≤—ą–į—Ź –∂–Ķ–Ĺ–į. ‚ÄĒ –ß–ł—ā–į—ā—Ć-—ā–ĺ –≤—Ā–Ķ —Ä–į–≤–Ĺ–ĺ –Ĺ–Ķ —É–ľ–Ķ–Ķ—ā.
‚ÄĒ –°–ļ–ĺ—Ä–ĺ –Ĺ–į—É—á–ł—ā—Ā—Ź, ‚ÄĒ —É–Ī–Ķ–∂–ī–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ –≥–ĺ–≤–ĺ—Ä–ł—ā –ü–Ķ—ā—Ä–ĺ–≤. ‚ÄĒ –ď–Ľ–į–≤–Ĺ–ĺ–Ķ: –Ņ–ĺ –Ņ–ĺ—Ä—Ź–ī–ļ—É –Ņ–ł—Ā—Ć–ľ–į —Ā–ļ–Ľ–į–ī—č–≤–į—ā—Ć. –ź –Ņ–ĺ—ā–ĺ–ľ —ā–ĺ—á–Ĺ–ĺ —ā–į–ļ –∂–Ķ –ł –Ņ—Ä–ĺ—á–ł—ā–į—ā—Ć. –Ě–ł—á–Ķ–≥–ĺ –ł –Ĺ–Ķ –ł–∑–ľ–Ķ–Ĺ–ł—ā—Ā—Ź. –ü—Ä–ĺ—Ā—ā–ĺ –ľ–ĺ–∂–Ĺ–ĺ —Ā—á–ł—ā–į—ā—Ć, —á—ā–ĺ —ą–Ľ–ł —Ā –Ī–ĺ–Ľ—Ć—ą–ł–ľ –ĺ–Ņ–ĺ–∑–ī–į–Ĺ–ł–Ķ–ľ. –Ď—č–≤–į–Ķ—ā...
‚ÄĒ –Į —Ā–ļ–Ľ–į–ī—č–≤–į—é, ‚ÄĒ –≥–ĺ–≤–ĺ—Ä–ł—ā –Ę–į–Ĺ–Ķ–ļ.
–ė –ĺ–Ĺ–ł –Ņ—Ä–ĺ–ī–ĺ–Ľ–∂–į—é—ā —Ä–į–Ī–ĺ—ā–į—ā—Ć –≤–ł–Ľ–ļ–į–ľ–ł. –ö—Ä–ĺ–ľ–Ķ –Ī—č–≤—ą–Ķ–Ļ –∂–Ķ–Ĺ—č, –ļ–ĺ—ā–ĺ—Ä–į—Ź –Ĺ–į—á–ł–Ĺ–į–Ķ—ā –ĺ–Ī—č—á–Ĺ–ĺ–Ķ:
‚ÄĒ –Ę—č –Ľ—É—á—ą–Ķ —Ā–ļ–į–∂–ł, –ļ–ĺ–≥–ī–į –≤–Ķ—Ä–Ĺ–Ķ—ą—Ć—Ā—Ź? –°–ĺ–≤—Ā–Ķ–ľ –≤–Ķ—Ä–Ĺ–Ķ—ą—Ć—Ā—Ź?
‚ÄĒ –ź —Ā–ļ–ĺ–Ľ—Ć–ļ–ĺ —É –Ĺ–į—Ā –Ķ—Č–Ķ –≤–Ņ–Ķ—Ä–Ķ–ī–ł?
‚ÄĒ –ß–Ķ–≥–ĺ –≤–Ņ–Ķ—Ä–Ķ–ī–ł?
‚ÄĒ –Ě—É, –Ľ–Ķ—ā –∂–ł–∑–Ĺ–ł...
‚ÄĒ –ď–ĺ—Ā–Ņ–ĺ–ī–ł! –Ē–į –ĺ—ā–ļ—É–ī–į –∂–Ķ —Ź –∑–Ĺ–į—é? –Ě—É, —ā—Ä–ł–ī—Ü–į—ā—Ć, –ī–ĺ–Ņ—É—Ā—ā–ł–ľ... –•–≤–į—ā–ł—ā?
‚ÄĒ –Ę–į–ļ –ļ—É–ī–į –∂–Ķ –ľ–Ĺ–Ķ —ā–ĺ—Ä–ĺ–Ņ–ł—ā—Ć—Ā—Ź? ‚ÄĒ —Ä–Ķ–∑–ĺ–Ĺ–Ĺ–ĺ, –ļ–į–ļ –Ķ–ľ—É –ļ–į–∂–Ķ—ā—Ā—Ź, –ĺ—ā–≤–Ķ—á–į–Ķ—ā –ü–Ķ—ā—Ä–ĺ–≤.
‚ÄĒ –Ę–į–ļ, ‚ÄĒ –≥–ĺ–≤–ĺ—Ä–ł—ā –Ī—č–≤—ą–į—Ź –∂–Ķ–Ĺ–į, –ĺ—ā–ļ–Ľ–į–ī—č–≤–į—Ź –≤–ł–Ľ–ļ—É –ł –Ĺ–į—á–ł–Ĺ–į—Ź –ľ—Ź—ā—Ć –≤ —Ä—É–ļ–į—Ö —Ā–į–Ľ—Ą–Ķ—ā–ļ—É. ‚ÄĒ –•–ĺ—Ä–ĺ—ą–ĺ. –Ę–Ķ–Ņ–Ķ—Ä—Ć —Ā–ļ–į–∂–ł, –ļ–į–ļ, –Ņ–ĺ-—ā–≤–ĺ–Ķ–ľ—É, —á—ā–ĺ —ā—č —Ā–Ķ–Ļ—á–į—Ā –Ķ—ą—Ć?
‚ÄĒ –ö–į–ļ —á—ā–ĺ? ‚ÄĒ –≥–ĺ–≤–ĺ—Ä–ł—ā –ü–Ķ—ā—Ä–ĺ–≤, –≤—Ā–ľ–į—ā—Ä–ł–≤–į—Ź—Ā—Ć –≤ —ā–į—Ä–Ķ–Ľ–ļ—É. ‚ÄĒ –°–į–ľ–į –∂–Ķ –≥–ĺ–≤–ĺ—Ä–ł–Ľ–į ‚ÄĒ –ļ–į—Ä—ā–ĺ—ą–ļ–į.
‚ÄĒ –£–≥—É. –ö–į—Ä—ā–ĺ—ą–ļ–į. –ź –Ķ—Ā–Ľ–ł –Ī—č —Ź —Ā–ļ–į–∑–į–Ľ–į ‚ÄĒ –ľ–ĺ—á–Ķ–Ĺ—č–Ķ –≥—Ä–į–Ī–Ľ–ł? –Ę–ĺ–∂–Ķ –Ī—č –Ņ–ĺ–≤–Ķ—Ä–ł–Ľ? –ė —ā–į–ļ –∂–Ķ —É–Ņ–Ľ–Ķ—ā–į–Ľ, –Ĺ–Ķ –∑–į–ī—É–ľ—č–≤–į—Ź—Ā—Ć?
‚ÄĒ –ü—Ä–ł —á–Ķ–ľ —ā—É—ā –≥—Ä–į–Ī–Ľ–ł? –í–Ķ–ī—Ć –≤–ļ—É—Ā–Ĺ–ĺ –∂–Ķ. –ö–į–ļ, –Ę–į–Ĺ–Ķ–ļ?
‚ÄĒ –í–ĺ! ‚ÄĒ –≥–ĺ–≤–ĺ—Ä–ł—ā –Ę–į–Ĺ–Ķ–ļ.
‚ÄĒ –Ę–į–ļ –≤–ĺ—ā —Ā–Ľ—É—ą–į–Ļ, ‚ÄĒ –≥–ĺ–≤–ĺ—Ä–ł—ā –Ī—č–≤—ą–į—Ź –∂–Ķ–Ĺ–į. ‚ÄĒ –≠—ā–ĺ ‚ÄĒ –∂–į—Ä–Ķ–Ĺ—č–Ķ –į–Ĺ–į–Ĺ–į—Ā—č. –°–Ņ–Ķ—Ü–ł–į–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ –ī–Ľ—Ź —ā–Ķ–Ī—Ź, –ü–Ķ—ā—Ä–ĺ–≤. –Ę—č –≤–Ķ–ī—Ć –Ľ—é–Ī–ł—ą—Ć, —á—ā–ĺ–Ī—č –≤—Ā–Ķ –Ĺ–Ķ –ļ–į–ļ —É –Ľ—é–ī–Ķ–Ļ... –í–Ķ–ī—Ć –Ľ—é–Ī–ł—ą—Ć?
–Ę–ĺ–Ľ—Ć–ļ–ĺ —á—ā–ĺ –Ņ—Ä–ł—Ā—ā—É–Ņ–ł–≤—ą–ł–Ļ –ļ —É–ī–ł–≤–Ľ–Ķ–Ĺ–ł—é –ü–Ķ—ā—Ä–ĺ–≤ –≤–ī—Ä—É–≥ –Ņ–ĺ–Ĺ–ł–ľ–į–Ķ—ā, —á—ā–ĺ —Ā–Ķ–Ļ—á–į—Ā –Ĺ–į—á–Ĺ—É—ā—Ā—Ź —Ā–Ľ–Ķ–∑—č. –≠—ā–ĺ–≥–ĺ –ĺ–Ĺ —ā–Ķ—Ä–Ņ–Ķ—ā—Ć –Ĺ–Ķ –ľ–ĺ–∂–Ķ—ā. –ü–Ķ—Ä–Ķ–≥–Ľ—Ź–Ĺ—É–≤—ą–ł—Ā—Ć —Ā –Ę–į–Ĺ—Ć–ļ–ĺ–ľ, –Ņ–ĺ–ī–Ĺ–ł–ľ–į–Ķ—ā—Ā—Ź –ł–∑-–∑–į —Ā—ā–ĺ–Ľ–į.
‚ÄĒ –Ě—É... —Ź –Ņ–ĺ—ą–Ķ–Ľ, —á—ā–ĺ –Ľ–ł? ‚ÄĒ –≥–ĺ–≤–ĺ—Ä–ł—ā –ĺ–Ĺ. ‚ÄĒ –ü—Ä–ĺ–≤–ĺ–ī–ł—ą—Ć, –Ę–į–Ĺ–Ķ–ļ?
‚ÄĒ –ź–≥–į, –ī–ĺ –ī–≤–Ķ—Ä–ł, ‚ÄĒ –≥–ĺ–≤–ĺ—Ä–ł—ā –Ę–į–Ĺ–Ķ–ļ, –Ņ–ĺ—Ā–ľ–ĺ—ā—Ä–Ķ–≤ –Ĺ–į –ľ–į—ā—Ć –ł —Ā–Ņ–ĺ–Ľ–∑–į—Ź —Ā–ĺ —Ā—ā—É–Ľ–į.
–í –ļ–ĺ—Ä–ł–ī–ĺ—Ä–Ķ –ü–Ķ—ā—Ä–ĺ–≤ —Ü–Ķ–Ľ—É–Ķ—ā –ī–ĺ—á–ļ—É –≤ –Ľ–ĺ–Ī, –≤—Ā–Ņ–ĺ–ľ–ł–Ĺ–į—Ź, —á—ā–ĺ –Ĺ–į–ī–ĺ –≥–ĺ–≤–ĺ—Ä–ł—ā—Ć –≤ —ā–į–ļ–ł—Ö —Ā–Ľ—É—á–į—Ź—Ö.
‚ÄĒ –ź... –í–ĺ—ā –≤—Ā–Ņ–ĺ–ľ–Ĺ–ł–Ľ... –ú–į–ľ—É —Ā–Ľ—É—ą–į–Ļ—Ā—Ź, ‚ÄĒ –Ņ—Ä–ĺ–ł–∑–Ĺ–ĺ—Ā–ł—ā –ĺ–Ĺ –Ĺ–į–∑–ł–ī–į—ā–Ķ–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ.
–ė –Ķ—Č–Ķ –ļ—Ä–ł—á–ł—ā –≤ –ļ–ĺ–ľ–Ĺ–į—ā—É –Ī—č–≤—ą–Ķ–Ļ –∂–Ķ–Ĺ–Ķ:
‚ÄĒ –£—ą–Ķ–Ľ!
–ź –Ņ–ĺ—ā–ĺ–ľ, –Ņ–ĺ–ļ–į —Ā–Ņ—É—Ā–ļ–į–Ķ—ā—Ā—Ź –Ņ–ĺ –Ľ–Ķ—Ā—ā–Ĺ–ł—Ü–Ķ –ł –≤—č—Ö–ĺ–ī–ł—ā –≤–ĺ –ī–≤–ĺ—Ä–Ķ, –ł –Ņ–ĺ–ļ–į –ī–ĺ–Ī–ł—Ä–į–Ķ—ā—Ā—Ź –ī–ĺ —Ā–ļ–≤–Ķ—Ä–į, –ļ –≥–ĺ—Ä–Ĺ–ł—Ā—ā—É, –≤—Ā–Ķ –ī—É–ľ–į–Ķ—ā –ł –Ī–ĺ—Ä–ľ–ĺ—á–Ķ—ā –Ņ–ĺ–ī –Ĺ–ĺ—Ā:
‚ÄĒ –ź–Ĺ–į–Ĺ–į—Ā—č... –í—Ä–ĺ–ī–Ķ –Ī—č –≤–ł–ī–Ķ–Ľ –ļ–ĺ–≥–ī–į-—ā–ĺ. –Ě–Ķ –Ĺ–į—ą –Ņ—Ä–ĺ–ī—É–ļ—ā, –Ņ–ĺ–Ĺ—Ź—ā–Ĺ–ĺ, –į –≥–ī–Ķ —ā–Ķ–Ņ–Ľ–ĺ... –ú–Ĺ–ĺ–≥–ĺ —Ā–ĺ–Ľ–Ĺ—Ü–į, –≥–ĺ–Ľ–ĺ–Ņ—É–∑—č—Ö –Ĺ–Ķ–≥—Ä–ł—ā—Ź—ā –ł –į–Ĺ–į–Ĺ–į—Ā–ĺ–≤. –í–ĺ—ā –Ī—č –Ĺ–į–ľ —Ā –ī–ĺ—á–ļ–ĺ–Ļ —ā–į–ľ –Ņ–ĺ—Ā–Ķ–Ľ–ł—ā—Ć—Ā—Ź. –Ę–ĺ-—ā–ĺ –Ī —Ā–Ľ–į–≤–Ĺ–ĺ –∑–į–∂–ł–Ľ–ł... –ź —ā–į–ľ, –≥–Ľ—Ź–ī–ł—ą—Ć, –ł —ć—ā—É –≤—č–Ņ–ł—Ā–į–Ľ–ł. –ú–ĺ–∂–Ķ—ā, –Ņ–ĺ–Ĺ—Ä–į–≤–ł–Ľ–ĺ—Ā—Ć –Ī—č –Ķ–Ļ?
–≠—ā–ĺ –Ĺ–Ķ –∑–į–Ī—č–≤–į–Ķ—ā –ĺ–Ĺ –ł –∂–Ķ–Ĺ—É.
–ě–°–ē–Ě–Ě–Į–Į –Ė–ē–Ě–©–ė–Ě–ź
–Ě–į—Ö–į–Ľ—Ć–Ĺ—č–Ļ —ā–į–ļ–ĺ–Ļ –ī—Ź—ā–Ķ–Ľ, —Ö–ĺ—ā—Ć –ł —Ā–ł–ľ–Ņ–į—ā–ł—á–Ĺ—č–Ļ, –Ĺ–į –Ľ–Ķ—ā—É –ī–ĺ–Ľ–Ī–į–Ĺ—É–Ľ –ļ–Ľ—é–≤–ł—Č–Ķ–ľ –ľ–Ķ–∂–ī—É –Ī—Ä–Ķ–≤–Ĺ–į–ľ–ł –ł –≤—č–ī—Ä–į–Ľ-—ā–į–ļ–ł –ļ—É—Ā–ĺ—á–Ķ–ļ –Ņ–į–ļ–Ľ–ł! –ė –Ņ–ĺ–Ī–Ķ–ī–Ĺ–ĺ —Ä–≤–į–Ĺ—É–Ľ –ļ —Ä–ĺ—Č–Ķ –∑–į –ī–Ķ—Ä–Ķ–≤–Ĺ–Ķ–Ļ, –∑–į–ľ–Ķ–Ľ—Ć–ļ–į–Ľ –ľ–Ķ–∂ –≥–ĺ–Ľ—č—Ö –≤–Ķ—ā–≤–Ķ–Ļ, –ĺ–Ī—É—Ā—ā—Ä–į–ł–≤–į—ā—Ć—Ā—Ź –Ĺ–į –∑–ł–ľ—É.
‚ÄĒ –Į –∂–Ķ –≥–ĺ–≤–ĺ—Ä–ł–Ľ–į, —á—ā–ĺ –Ĺ–į–ī–ĺ —Ā–ł–Ľ—Ć–Ĺ–Ķ–Ķ –∑–į–ļ–ĺ–Ľ–į—á–ł–≤–į—ā—Ć, ‚ÄĒ —Ā–ļ–į–∑–į–Ľ–į –ĺ–Ĺ–į —Ā–Ĺ–ł–∑—É.
‚ÄĒ –ó–į–Ľ–Ķ–∑–Ľ–į –Ī—č —Ā–į–ľ–į –ī–į –∑–į–ļ–ĺ–Ľ–į—á–ł–≤–į–Ľ–į, ‚ÄĒ –Ņ—Ä–ĺ–Ī–ĺ—Ä–ľ–ĺ—ā–į–Ľ —Ź.
‚ÄĒ –ß—ā–ĺ?
‚ÄĒ –Į —Ā–Ņ—Ä–į—ą–ł–≤–į—é, ‚ÄĒ –Ņ—Ä–ĺ–≥–ĺ–≤–ĺ—Ä–ł–Ľ —Ź –≥—Ä–ĺ–ľ—á–Ķ, ‚ÄĒ –Ķ—Ā–Ľ–ł –ĺ–Ĺ–į –ł–ī–Ķ–į–Ľ—Ć–Ĺ–į—Ź –∂–Ķ–Ĺ—Č–ł–Ĺ–į, –Ņ–ĺ—á–Ķ–ľ—É –∂–Ķ–Ĺ–ł—ā—Ć—Ā—Ź –Ĺ–į –Ĺ–Ķ–Ļ –ī–ĺ–Ľ–∂–Ķ–Ĺ —Ź? –Į-—ā–ĺ –Ĺ–Ķ –ł–ī–Ķ–į–Ľ—Ć–Ĺ—č–Ļ.
‚ÄĒ –†–į–∑—É–ľ–Ķ–Ķ—ā—Ā—Ź, ‚ÄĒ –ľ–≥–Ĺ–ĺ–≤–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ –ł —Ā —É–ī–ĺ–≤–ĺ–Ľ—Ć—Ā—ā–≤–ł–Ķ–ľ —Ā–ĺ–≥–Ľ–į—Ā–ł–Ľ–į—Ā—Ć –ĺ–Ĺ–į. ‚ÄĒ –Ę—č –Ĺ–Ķ –ł–ī–Ķ–į–Ľ—Ć–Ĺ—č–Ļ. –Ě–ĺ, —ā–Ķ–ľ –Ĺ–Ķ –ľ–Ķ–Ĺ–Ķ–Ķ, –ĺ–Ĺ–į –ł–ľ–Ķ–Ķ—ā –Ņ—Ä–į–≤–ĺ –Ĺ–į –ĺ–Ņ–ĺ—Ä—É.
‚ÄĒ –Ě–į —á—ā–ĺ?
–Į —Ā —ā—Ä—É–ī–ĺ–ľ —É–ī–Ķ—Ä–∂–ł–≤–į–Ľ —Ä–į–≤–Ĺ–ĺ–≤–Ķ—Ā–ł–Ķ –Ĺ–į —ć—ā–ĺ–Ļ —Ö–Ľ–ł–Ņ–ļ–ĺ–Ļ, –ļ–į–ļ –ł –≤—Ā–Ķ –≤ –Ķ–Ķ —Ö–ĺ–∑—Ź–Ļ—Ā—ā–≤–Ķ, —Ā—ā—Ä–Ķ–ľ—Ź–Ĺ–ļ–Ķ.
‚ÄĒ –Ę—č –ī–į–∂–Ķ —ć—ā–ĺ–≥–ĺ –Ĺ–Ķ –∑–Ĺ–į–Ķ—ą—Ć? ‚ÄĒ –ł–∑—É–ľ–ł–Ľ–į—Ā—Ć –ĺ–Ĺ–į. ‚ÄĒ –Ę–į–ļ —Ā–Ľ—É—ą–į–Ļ, –∑–ĺ–Ľ–ĺ—ā—Ü–Ķ: –ľ—É–∂—á–ł–Ĺ–į –ī–ĺ–Ľ–∂–Ķ–Ĺ –Ī—č—ā—Ć –ĺ–Ņ–ĺ—Ä–ĺ–Ļ –ī–Ľ—Ź –∂–Ķ–Ĺ—Č–ł–Ĺ—č.
‚ÄĒ –Ę–ĺ –Ķ—Ā—ā—Ć? –ß—ā–ĺ —Ź –ī–ĺ–Ľ–∂–Ķ–Ĺ –ī–Ķ–Ľ–į—ā—Ć –≤ —ć—ā–ĺ–ľ –ļ–į—á–Ķ—Ā—ā–≤–Ķ? –®–Ķ—é –Ņ–ĺ–ī—Ā—ā–į–≤–ł—ā—Ć? –Ē–į–≤–į–Ļ –Ņ–į–ļ–Ľ—é...
‚ÄĒ –Ē–Ķ—Ä–∂–ł... –ě–Ļ, –≤ –≥–Ľ–į–∑ –Ņ–ĺ–Ņ–į–Ľ–ĺ! –í–Ķ—ā–Ķ—Ä –Ķ—Č–Ķ —ć—ā–ĺ—ā –ī—É—Ä–į—Ü–ļ–ł–Ļ!.. –ź —ā—č –≤–ĺ—ā –≤—Ā–Ņ–ĺ–ľ–Ĺ–ł –ĺ—ā—Ü–į, –≤—Ā–Ņ–ĺ–ľ–Ĺ–ł...
‚ÄĒ –ß—Ć–Ķ–≥–ĺ?
‚ÄĒ –Ę–≤–ĺ–Ķ–≥–ĺ.
‚ÄĒ –Ē–į —Ź –ł –Ĺ–Ķ –∑–į–Ī—č–≤–į–Ľ.
‚ÄĒ –Ď—č–Ľ –ĺ–Ĺ –ĺ–Ņ–ĺ—Ä–ĺ–Ļ –ī–Ľ—Ź –ľ–į–ľ—č?
‚ÄĒ –Į –ļ–į–ļ-—ā–ĺ –Ĺ–Ķ —Ā–Ņ—Ä–į—ą–ł–≤–į–Ľ. –Ę–ĺ–Ľ—Ć–ļ–ĺ –Ĺ–Ķ –Ĺ–į–ī–ĺ –ĺ–Ī–≤–ł–Ĺ—Ź—ā—Ć –ľ–Ķ–Ĺ—Ź –≤ —á–Ķ—Ä—Ā—ā–≤–ĺ—Ā—ā–ł...
‚ÄĒ –Ě—É, –Ņ–ĺ–ľ–ĺ–≥–į–Ľ –ĺ–Ĺ –Ķ–Ļ –≤–į—Ā, –ī–Ķ—ā–Ķ–Ļ, —Ä–į—Ā—ā–ł—ā—Ć?
‚ÄĒ –Ē–į. –Ē–Ľ—Ź —ć—ā–ĺ–Ļ —Ü–Ķ–Ľ–ł –Ĺ–į –ī–≤–Ķ—Ä–Ĺ–ĺ–Ļ —Ä—É—á–ļ–Ķ –≤ –ł—Ö —Ā–Ņ–į–Ľ—Ć–Ĺ–Ķ –≤—Ā–Ķ–≥–ī–į –≤–ł—Ā–Ķ–Ľ —Ä–Ķ–ľ–Ķ–Ĺ—Ć. –®–ł—Ä–ĺ–ļ–ł–Ļ —ā–į–ļ–ĺ–Ļ, –Ņ–ĺ–ľ–Ĺ—é, –ĺ—Ą–ł—Ü–Ķ—Ä—Ā–ļ–ł–Ļ. –ě–ī–Ĺ–į–∂–ī—č...
‚ÄĒ –Į —Ā–Ķ—Ä—Ć–Ķ–∑–Ĺ–ĺ. –Ė–į–Ľ–Ķ–Ľ –ĺ–Ĺ –ľ–į—ā—Ć?
‚ÄĒ –ö–į–ļ —ć—ā–ĺ?
‚ÄĒ –Ē–Ķ–Ĺ—Ć–≥–ł –Ņ—Ä–ł–Ĺ–ĺ—Ā–ł–Ľ?
‚ÄĒ –ü–ĺ–Ņ—Ä–ĺ–Ī–ĺ–≤–į–Ľ –Ī—č... –ź —á–Ķ—Ä—ā! –ü–ĺ –Ņ–į–Ľ—Ć—Ü—É... –ü–ĺ–Ņ—Ä–ĺ–Ī–ĺ–≤–į–Ľ –Ī—č –Ĺ–Ķ –Ņ—Ä–ł–Ĺ–ĺ—Ā–ł—ā—Ć.
‚ÄĒ –í–ĺ—ā! –Ě–Ķ –Ī–ł–Ľ –Ķ–Ķ?
‚ÄĒ –•–ľ... –ú–Ķ–Ĺ—Ź –ļ —Ä–ł–Ĺ–≥—É –Ĺ–Ķ –ī–ĺ–Ņ—É—Ā–ļ–į–Ľ–ł. –Ě–ĺ, —Ā—É–ī—Ź –Ņ–ĺ –ī–ĺ–Ĺ–ĺ—Ā—Ź—Č–ł–ľ—Ā—Ź –∑–≤—É–ļ–į–ľ, –Ņ–ĺ–≥—Ä–į–Ĺ–ł—á–Ĺ—č–Ķ –ļ–ĺ–Ĺ—Ą–Ľ–ł–ļ—ā—č –ł–ľ–Ķ–Ľ–ł –ľ–Ķ—Ā—ā–ĺ. –°–Ľ—É—ą–į–Ļ, –ļ–į–∂–Ķ—ā—Ā—Ź, –ī–ĺ–∂–ī—Ć, –į?
‚ÄĒ –Ě–ł—á–Ķ–≥–ĺ, —Ā–Ķ–Ļ—á–į—Ā –Ņ—Ä–Ķ–ļ—Ä–į—ā–ł—ā—Ā—Ź. –ě–Ĺ –≤–Ķ—Ā—Ć –ī–Ķ–Ĺ—Ć –Ĺ–į—á–ł–Ĺ–į–Ķ—ā—Ā—Ź. –í–ĺ–Ĺ —ā–į–ľ –Ķ—Č–Ķ –Ņ–ĺ—Ā—ā—É—á–ł. –í–ł–ī–ł—ą—Ć, —ā–ĺ—Ä—á–ł—ā?
‚ÄĒ –í–ł–∂—É, —ā–ĺ–Ľ—Ć–ļ–ĺ –Ľ–Ķ—ā–į—ā—Ć —Ź –Ķ—Č–Ķ –Ĺ–Ķ –Ĺ–į—É—á–ł–Ľ—Ā—Ź, –Ĺ–Ķ–ļ–ĺ–≥–ī–į...
‚ÄĒ –ė –Ĺ–Ķ –Ĺ–į—É—á–ł—ą—Ć—Ā—Ź.
‚ÄĒ –ö—ā–ĺ –∑–Ĺ–į–Ķ—ā. –ú–Ĺ–Ķ –ĺ–ī–Ĺ–į –ī–Ķ–≤–ł—Ü–į –ļ–į–ļ-—ā–ĺ —Ā–ļ–į–∑–į–Ľ–į: –Ņ–ĺ—ā–Ķ—Ä–Ņ–ł –Ķ—Č–Ķ –Ľ–Ķ—ā –Ņ—Ź—ā—Ć, –ł —Ź —Ā—ā–į–Ĺ—É –ļ—Ä–į—Ā–į–≤–ł—Ü–Ķ–Ļ...
‚ÄĒ –Ę—Ć—Ą—É!
‚ÄĒ –ß—ā–ĺ —ā—Ć—Ą—É?
‚ÄĒ –Ě–į –ī–Ķ–≤–ł—Ü —ā–≤–ĺ–ł—Ö ‚ÄĒ —ā—Ć—Ą—É! –Ę—č —Ö–ĺ—ā—Ć –Ņ–ĺ–Ĺ—Ź–Ľ, –ĺ —á–Ķ–ľ —Ź –≥–ĺ–≤–ĺ—Ä–ł–Ľ–į?
‚ÄĒ –Ě–į—Ā—á–Ķ—ā –ĺ–Ņ–ĺ—Ä—č? –Ď–ĺ–Ľ–Ķ–Ķ-–ľ–Ķ–Ĺ–Ķ–Ķ. –Į –Ĺ–Ķ –Ņ–ĺ–Ĺ—Ź–Ľ: —Ź-—ā–ĺ —ā—É—ā –Ņ—Ä–ł —á–Ķ–ľ?
‚ÄĒ –Ę—č, –ł–ľ–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ —ā—č –ł –ī–ĺ–Ľ–∂–Ķ–Ĺ —Ā—ā–į—ā—Ć –Ķ–Ļ –ĺ–Ņ–ĺ—Ä–ĺ–Ļ. –Ď–ł—ā—č–Ļ —á–į—Ā —ā–Ķ–Ī–Ķ –≤—ā–ĺ–Ľ–ļ–ĺ–≤—č–≤–į—é!
‚ÄĒ –õ–į–ī–Ĺ–ĺ, –Ĺ–Ķ —Ā–Ķ—Ä–ī–ł—Ā—Ć. –Ě–ĺ —ā—č –∂–Ķ —Ā–į–ľ–į —Ā–ļ–į–∑–į–Ľ–į, —á—ā–ĺ –ī–Ķ—ā–Ķ–Ļ –ĺ–Ĺ–į –Ĺ–Ķ —Ö–ĺ—á–Ķ—ā, —ā–į–ļ?
‚ÄĒ –Ě—É-—É... –Ě–Ķ–∂–Ķ–Ľ–į—ā–Ķ–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ. –í–ĺ–∑—Ä–į—Ā—ā —É–∂–Ķ...
‚ÄĒ –í–ĺ—ā. –ė—ā–į–ļ, –Ņ–ĺ–ī–ī–Ķ—Ä–∂–ļ–į –≤ –ī–Ķ–Ľ–Ķ –≤–ĺ—Ā–Ņ–ł—ā–į–Ĺ–ł—Ź –ī–Ķ—ā–Ķ–Ļ –ł—Ā–ļ–Ľ—é—á–į–Ķ—ā—Ā—Ź. –í—ā–ĺ—Ä–ĺ–Ļ –Ņ—É–Ĺ–ļ—ā. –Ė–Ķ–Ĺ—Č–ł–Ĺ —Ź –Ĺ–Ķ –Ī—Ć—é. –Ę–į–ļ —á—ā–ĺ –Ķ–Ļ —á—ā–ĺ —Ā–ĺ –ľ–Ĺ–ĺ–Ļ, —á—ā–ĺ –Ī–Ķ–∑ –ľ–Ķ–Ĺ—Ź ‚ÄĒ –ĺ–ī–Ĺ–ĺ –ł —ā–ĺ –∂–Ķ.
‚ÄĒ –ö–į–ļ —ć—ā–ĺ?
‚ÄĒ –Ě–Ķ –Ņ–Ķ—Ä–Ķ–Ī–ł–≤–į–Ļ. –ě—Ā—ā–į–Ķ—ā—Ā—Ź —Ą–ł–Ĺ–į–Ĺ—Ā–ĺ–≤—č–Ļ –≤–ĺ–Ņ—Ä–ĺ—Ā. –ě–Ĺ–į —á—ā–ĺ, –Ĺ–Ķ —Ä–į–Ī–ĺ—ā–į–Ķ—ā?
‚ÄĒ –ü–ĺ—á–Ķ–ľ—É? –†–į–Ī–ĺ—ā–į–Ķ—ā. –Ě–ĺ –Ņ–Ľ–į—ā—Ź—ā –ľ–į–Ľ–ĺ.
‚ÄĒ –ź —á—ā–ĺ –Ķ—Ā–Ľ–ł —Ź –Ķ–Ļ –Ņ—Ä–ĺ—Ā—ā–ĺ –Ī—É–ī—É –≤—č–Ņ–Ľ–į—á–ł–≤–į—ā—Ć —Ā—ā–ł–Ņ–Ķ–Ĺ–ī–ł—é? –ė–ľ–Ķ–Ĺ–Ĺ—É—é? –ė–ľ–Ķ–Ĺ–ł –ľ–ĺ–Ķ–≥–ĺ –ł–ľ–Ķ–Ĺ–ł? –ź? –Ě–Ķ—ā, —Ā–Ķ—Ä—Ć–Ķ–∑–Ĺ–ĺ, –ľ–Ĺ–Ķ —ć—ā–į –ł–ī–Ķ—Ź –Ĺ—Ä–į–≤–ł—ā—Ā—Ź. –Ę—č —É–∑–Ĺ–į–Ļ, –ļ–į–ļ–į—Ź –Ī—č —Ā—É–ľ–ľ–į –Ķ–Ķ —É—Ā—ā—Ä–ĺ–ł–Ľ–į, —Ź –Ī—č –Ņ–ĺ–ī—É–ľ–į–Ľ... –ü—Ä–Ķ–ī—Ā—ā–į–≤–Ľ—Ź–Ķ—ą—Ć, —Ź —Ā–ĺ—Ö—Ä–į–Ĺ–ł–Ľ –ī–Ľ—Ź —á–Ķ–Ľ–ĺ–≤–Ķ—á–Ķ—Ā—ā–≤–į –ł–ī–Ķ–į–Ľ—Ć–Ĺ—É—é –∂–Ķ–Ĺ—Č–ł–Ĺ—É, –Ņ–ĺ–ľ–ĺ–≥ –Ķ–Ļ –≤—č–∂–ł—ā—Ć! –í—Ā–Ķ, –ī–į–≤–į–Ļ —ā–Ķ–Ľ–Ķ—Ą–ĺ–Ĺ. –ö–į–ļ-–Ĺ–ł–Ī—É–ī—Ć –Ņ–ĺ–∑–≤–ĺ–Ĺ—é.
‚ÄĒ –Ě–Ķ –ļ–į–ļ-–Ĺ–ł–Ī—É–ī—Ć, –Ĺ–Ķ –ļ–į–ļ-–Ĺ–ł–Ī—É–ī—Ć! –ü–ĺ–∑–≤–ĺ–Ĺ–ł—ą—Ć —Ā–Ķ–≥–ĺ–ī–Ĺ—Ź –∂–Ķ –ł–Ľ–ł –∑–į–≤—ā—Ä–į. –Į –Ķ–Ķ –Ņ—Ä–Ķ–ī—É–Ņ—Ä–Ķ–ī–ł–Ľ–į.
‚ÄĒ –£–∂–Ķ!? –ź –Ķ—Ā–Ľ–ł –Ī—č —Ź –Ĺ–Ķ —Ā–ĺ–≥–Ľ–į—Ā–ł–Ľ—Ā—Ź?
‚ÄĒ –ź —ā–ĺ —Ź —ā–Ķ–Ī—Ź –Ĺ–Ķ –∑–Ĺ–į—é.
‚ÄĒ –ß—ā–ĺ-–ĺ?
‚ÄĒ –Ě–ł—á–Ķ–≥–ĺ, –Ĺ–ł—á–Ķ–≥–ĺ. –ó–į–ļ–į–Ĺ—á–ł–≤–į–Ļ. –ü–ĺ–Ļ–ī–Ķ–ľ, –Ņ–ĺ–ļ–ĺ—Ä–ľ–Ľ—é. –ź —ā–ĺ –ł —Ā —Ā—č—ā—č–ľ –ľ—É–∂–ł–ļ–ĺ–ľ —ā—Ź–∂–Ķ–Ľ–ĺ –≥–ĺ–≤–ĺ—Ä–ł—ā—Ć, –į —É–∂ —Ā –≥–ĺ–Ľ–ĺ–ī–Ĺ—č–ľ...
‚ÄĒ –ź –≤–Ķ–ī—Ć —Ź –ī–į–∂–Ķ –Ĺ–Ķ –∑–Ĺ–į—é, –ĺ —á–Ķ–ľ –ł –ļ–į–ļ —Ä–į–∑–≥–ĺ–≤–į—Ä–ł–≤–į—ā—Ć —Ā –ł–ī–Ķ–į–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ–Ļ –∂–Ķ–Ĺ—Č–ł–Ĺ–ĺ–Ļ!
‚ÄĒ –£–∂ –≤–ĺ –≤—Ā—Ź–ļ–ĺ–ľ —Ā–Ľ—É—á–į–Ķ, –Ĺ–Ķ —ā–į–ļ, –ļ–į–ļ —Ā–ĺ –ľ–Ĺ–ĺ–Ļ!
‚ÄĒ –°–Ľ—É—ą–į–Ļ, –į —É –Ĺ–Ķ–Ķ —Ā —á—É–≤—Ā—ā–≤–ĺ–ľ —é–ľ–ĺ—Ä–į –ļ–į–ļ?
‚ÄĒ –ü—Ä–Ķ–ļ—Ä–į—Ā–Ĺ–ĺ.
‚ÄĒ –Ę–ĺ –Ķ—Ā—ā—Ć ‚ÄĒ –ļ–į–ļ —É —ā–Ķ–Ī—Ź?
‚ÄĒ –í–ĺ—ā-–≤–ĺ—ā, –Ķ—Ā–Ľ–ł –Ī—É–ī–Ķ—ą—Ć —Ä–į–∑–≥–ĺ–≤–į—Ä–ł–≤–į—ā—Ć —Ā –Ĺ–Ķ–Ļ –≤ —ā–į–ļ–ĺ–ľ —ā–ĺ–Ĺ–Ķ...
‚ÄĒ –í –ļ–į–ļ–ĺ–ľ?
‚ÄĒ –í –≥–Ľ—É–Ņ–ĺ–ľ, —Ä–į–∑–≤—Ź–∑–Ĺ–ĺ–ľ... –ü–ł—ą–ł ‚ÄĒ –Ņ—Ä–ĺ–Ņ–į–Ľ–ĺ. –£ –≤–į—Ā —Ā –Ĺ–Ķ–Ļ –Ĺ–ł—á–Ķ–≥–ĺ –Ĺ–Ķ –Ņ–ĺ–Ľ—É—á–ł—ā—Ā—Ź.
‚ÄĒ –ó–Ĺ–į—á–ł—ā, –Ņ—Ä–ł–ī–Ķ—ā—Ā—Ź —Ä–į–∑–≥–ĺ–≤–į—Ä–ł–≤–į—ā—Ć –≥–Ľ—É–Ņ–ĺ –ł —Ä–į–∑–≤—Ź–∑–Ĺ–ĺ.
‚ÄĒ –Ě–Ķ –ł—Ā–Ņ—č—ā—č–≤–į–Ļ –ľ–ĺ–Ķ —ā–Ķ—Ä–Ņ–Ķ–Ĺ–ł–Ķ!
‚ÄĒ –Ě—É, —Ö–ĺ—Ä–ĺ—ą–ĺ. –ü–ĺ–∑–≤–ĺ–Ĺ–ł–Ľ. –ß—ā–ĺ –ī–į–Ľ—Ć—ą–Ķ?
‚ÄĒ –ü—Ä–ł–≥–Ľ–į—Ā–ł—ą—Ć –ļ—É–ī–į-–Ĺ–ł–Ī—É–ī—Ć.
‚ÄĒ –•–ĺ—Ä–ĺ—ą–ĺ. –ü—Ä–ł–≥–Ľ–į—ą—É.
‚ÄĒ –ö—É–ī–į? –£–∂–Ķ —Ä–Ķ—ą–ł–Ľ?
‚ÄĒ –≠—ā–ĺ —Ā–Ķ–Ļ—á–į—Ā –Ĺ–į–ī–ĺ —Ä–Ķ—ą–į—ā—Ć?
‚ÄĒ –ö–ĺ–Ĺ–Ķ—á–Ĺ–ĺ! –Į –∂–Ķ –ī–ĺ–Ľ–∂–Ĺ–į –∑–Ĺ–į—ā—Ć!
‚ÄĒ –Ē–į–≤–į–Ļ –Ņ–į–ļ–Ľ—é... –Ē–ĺ–ľ–ĺ–Ļ, –ļ–ĺ–Ĺ–Ķ—á–Ĺ–ĺ.
‚ÄĒ –Ę—č —Ā —É–ľ–į —Ā–ĺ—ą–Ķ–Ľ! –Į –∂–Ķ —ā–Ķ–Ī–Ķ —Ü–Ķ–Ľ—č–Ļ –ī–Ķ–Ĺ—Ć —ā–ĺ–Ľ–ļ—É—é ‚ÄĒ –ĺ–Ĺ–į –Ĺ–Ķ —ā–į–ļ–į—Ź... –°—Ö–ĺ–ī–ł—ā–Ķ –Ĺ–į –≤—č—Ā—ā–į–≤–ļ—É, –Ņ–ĺ–≥—É–Ľ—Ź–Ļ—ā–Ķ...
‚ÄĒ –ź –∑–Ĺ–į–Ķ—ą—Ć —á—ā–ĺ? –ü—Ä–ł–≥–Ľ–į—ą—É-–ļ–į —Ź –Ķ–Ķ –ļ —ā–Ķ–Ī–Ķ. –í–ĺ—ā –ł –Ī—É–ī–Ķ–ľ –≤–ľ–Ķ—Ā—ā–Ķ –ļ–ĺ–Ĺ–ĺ–Ņ–į—ā–ł—ā—Ć. –ė–Ľ–ł –ļ–į—Ä—ā–ĺ—ą–ļ—É –ļ–ĺ–Ņ–į—ā—Ć. –°–ľ–ĺ—ā—Ä–ł, —É–∂–Ķ –ī–ĺ–∂–ī–ł –∑–į—Ä—Ź–ī–ł–Ľ–ł, –Ņ–ĺ–≥–Ĺ–ł–Ķ—ā –≤—Ā–Ķ, –Ĺ–Ķ —É–Ņ—Ä–į–≤–ł—ą—Ć—Ā—Ź...
‚ÄĒ –ě—Ö-—Ö–ĺ-—Ö–ĺ... –Ě–Ķ—ā! –ė –≤–ĺ–ĺ–Ī—Č–Ķ, —á—ā–ĺ —ā—č —Ā–Ķ–Ī–Ķ –ī—É–ľ–į–Ķ—ą—Ć? –Ė–Ķ–Ĺ—Č–ł–Ĺ–į —ā–Ķ–Ī–Ķ –ļ—ā–ĺ?
‚ÄĒ –Ę–ĺ–≤–į—Ä–ł—Č, —Ā–ĺ—Ä–į—ā–Ĺ–ł–ļ... –≤ —Ä–į–∑–Ľ–ł—á–Ĺ–ĺ–≥–ĺ —Ä–ĺ–ī–į —Ā—Ö–≤–į—ā–ļ–į—Ö.
‚ÄĒ –ö–į—Ä—ā–ĺ—ą–ļ—É –ļ–ĺ–Ņ–į—ā—Ć... –≠—ā–ĺ —ā—č –Ī—Ä–ĺ—Ā—Ć. –ź —ā—č –Ĺ–į —á—ā–ĺ?
‚ÄĒ –•–ĺ—Ä–ĺ—ą–ĺ, –Ķ—Ā–Ľ–ł –ĺ–Ĺ–į —ā–į–ļ–į—Ź –ł–ī–Ķ–į–Ľ—Ć–Ĺ–į—Ź, —ā–ĺ –Ņ–ĺ—á–Ķ–ľ—É –Ĺ–Ķ –∑–į–ľ—É–∂–Ķ–ľ, –į? –ü–ĺ—á–Ķ–ľ—É?
‚ÄĒ –Ę—č –Ĺ–Ķ —Ö—É–∂–Ķ –ľ–ĺ–Ķ–≥–ĺ –∑–Ĺ–į–Ķ—ą—Ć, –ļ–į–ļ –Ĺ–Ķ –≤–Ķ–∑–Ķ—ā —ā–į–ļ–ł–ľ –∂–Ķ–Ĺ—Č–ł–Ĺ–į–ľ. –ö–į-—ā–į-—Ā—ā—Ä–ĺ-—Ą–ł-—á–Ķ—Ā–ļ–ł! –í–į–ľ –∂–Ķ –≤—Ā–Ķ –≤–Ķ—Ä—ā–ł—Ö–≤–ĺ—Ā—ā–ĺ–ļ –Ņ–ĺ–ī–į–≤–į–Ļ.
‚ÄĒ –Ę—č –Ņ—Ä—Ź–ľ–ĺ –ļ–į–ļ —Ā—ā–į—Ä–Ķ–Ĺ—Ć–ļ–į—Ź —Ā—ā—Ä–į—Ö–į —Ä–į—Ā—Ā—É–∂–ī–į–Ķ—ą—Ć. –Ě–Ķ —Ä–į–Ĺ–ĺ –Ľ–ł?
‚ÄĒ –ź —ā—č –ī—É–ľ–į–Ķ—ą—Ć, –ľ—č —Ā —ā–ĺ–Ī–ĺ–Ļ –ľ–ĺ–Ľ–ĺ–ī–Ķ–Ĺ—Ć–ļ–ł–Ķ? –ü–ĺ—Ā–ľ–ĺ—ā—Ä–ł –Ĺ–į —Ā–Ķ–Ī—Ź. –Ě–Ķ—É—Ā—ā—Ä–ĺ–Ķ–Ĺ–Ĺ—č–Ļ, –Ĺ–Ķ—É—Ö–ĺ–∂–Ķ–Ĺ–Ĺ—č–Ļ. –í—Ā–Ķ –Ņ–ĺ—Ä—Ö–į–Ķ—ą—Ć, –į –ľ–ĺ—Ä—Č–ł–Ĺ—č-—ā–ĺ —É–∂–Ķ...
‚ÄĒ –Ě—É, —Ā–Ņ–į—Ā–ł–Ī–ĺ. –Ę–ĺ–Ľ—Ć–ļ–ĺ –Ņ–ĺ—á–Ķ–ľ—É –Ī—č —ā–Ķ–Ī–Ķ –ĺ —Ā–Ķ–Ī–Ķ –Ĺ–Ķ –Ņ–ĺ–∑–į–Ī–ĺ—ā–ł—ā—Ć—Ā—Ź? –ź —ā—č ‚ÄĒ –ĺ –Ĺ–Ķ–Ļ...
‚ÄĒ –Ē–į —á—ā–ĺ —Ź? –ü—Ä–ĺ–ľ–į—Ź–Ľ–į—Ā—Ć, –Ņ—Ä–ł–≤—č–ļ–Ľ–į. –Ē–ĺ—á–ļ–į —É–∂–Ķ, —Ā–Ľ–į–≤–į –Ď–ĺ–≥—É, –Ī–ĺ–Ľ—Ć—ą–į—Ź, –≤ —ą–ļ–ĺ–Ľ—É —Ö–ĺ–ī–ł—ā... –ź –Ķ–Ļ... –ē–Ļ —ā—Ź–∂–Ķ–Ľ–ĺ. –Ę–į–ļ–ł–ľ –∂–Ķ–Ĺ—Č–ł–Ĺ–į–ľ –≤—Ā–Ķ–≥–ī–į —ā—Ź–∂–Ķ–Ľ–ĺ, –į —É–∂ –≤ –Ĺ–į—ą–Ķ-—ā–ĺ –≤—Ä–Ķ–ľ—Ź... –ě–Ĺ–į —ā–į–ļ–į—Ź... –Ď–Ķ–∑–∑–į—Č–ł—ā–Ĺ–į—Ź.
–ú—č —É–∂–Ķ —Ā–ł–ī–ł–ľ –≤ –Ņ—Ä–ĺ–ī—É–≤–į–Ķ–ľ–ĺ–Ļ —Ā–ļ–≤–ĺ–∑—Ć —Č–Ķ–Ľ–ł –≤ –Ī—Ä–Ķ–≤–Ĺ–į—Ö –ļ—É—Ö–Ĺ–Ķ –ł –Ņ—Ć–Ķ–ľ —á–į–Ļ –Ĺ–į –ľ—Ź—ā–Ķ. –í –ĺ–ļ–Ĺ–ĺ –≤–ł–ī–Ĺ–ĺ, –ļ–į–ļ –Ņ–ĺ–ī —Ą–ĺ–Ĺ–į—Ä–Ķ–ľ –≤ –≥–Ľ—É–Ī–ł–Ĺ–Ķ —Ā–į–ī–į —Ā–ł–ī–ł—ā –Ķ–Ķ —Ā—É–ľ–į—Ā—ą–Ķ–ī—ą–ł–Ļ –Ī—Ä–į—ā. –ě–Ĺ –Ī—č—Ā—ā—Ä–ĺ-–Ī—č—Ā—ā—Ä–ĺ –ļ—É—Ä–ł—ā –ł –Ľ–ł—Ö–ĺ—Ä–į–ī–ĺ—á–Ĺ–ĺ –ļ—Ä—É—ā–ł—ā —Ä—É—á–ļ—É –Ĺ–į—Ā—ā—Ä–ĺ–Ļ–ļ–ł –ī–į–≤–Ĺ–ĺ —Ā–Ľ–ĺ–ľ–į–Ĺ–Ĺ–ĺ–≥–ĺ –Ņ—Ä–ł–Ķ–ľ–Ĺ–ł–ļ–į.
‚ÄĒ –Ě—É?
–ě–Ĺ–į —Ā–ľ–ĺ—ā—Ä–ł—ā –≥—Ä—É—Ā—ā–Ĺ–ĺ –ł —É—Ā—ā–į–Ľ–ĺ.
‚ÄĒ –ü–ĺ–∑–≤–ĺ–Ĺ–ł—ą—Ć?
‚ÄĒ –ü–ĺ–∑–≤–ĺ–Ĺ—é. –Ę–ĺ–Ľ—Ć–ļ–ĺ —Ź –Ĺ–ł—á–Ķ–≥–ĺ –Ĺ–Ķ –ĺ–Ī–Ķ—Č–į—é.
‚ÄĒ –Ě–Ķ—ā, –Ĺ–Ķ—ā, ‚ÄĒ —ā–ĺ—Ä–ĺ–Ņ–Ľ–ł–≤–ĺ —É—Ā–Ņ–ĺ–ļ–į–ł–≤–į–Ķ—ā –ĺ–Ĺ–į. ‚ÄĒ –ē—Ā–Ľ–ł –Ĺ–Ķ –Ņ–ĺ–Ĺ—Ä–į–≤–ł—ā—Ā—Ź, –Ĺ–ł–ļ—ā–ĺ —ā–Ķ–Ī—Ź —Ā–ł–Ľ–ļ–ĺ–ľ –Ĺ–ł–ļ—É–ī–į –Ĺ–Ķ –Ņ–ĺ—ā–į—Č–ł—ā. –ź –Ņ–ĺ—Ā–Ľ–Ķ–∑–į–≤—ā—Ä–į —Ź —ā–Ķ–Ī–Ķ –Ņ–Ķ—Ä–Ķ–∑–≤–ĺ–Ĺ—é. –†–į—Ā—Ā–ļ–į–∂–Ķ—ą—Ć –ľ–Ĺ–Ķ –≤—Ā–Ķ, —Ö–ĺ—Ä–ĺ—ą–ĺ?
‚ÄĒ –£–≥—É. –í—Ā–Ķ-–≤—Ā–Ķ —Ä–į—Ā—Ā–ļ–į–∂—É. –° –Ņ–ł–ļ–į–Ĺ—ā–Ĺ—č–ľ–ł –Ņ–ĺ–ī—Ä–ĺ–Ī–Ĺ–ĺ—Ā—ā—Ź–ľ–ł.
‚ÄĒ –Ě—É, –ł–ī–ł, ‚ÄĒ –≤–ī—Ä—É–≥ —Ā–Ķ—Ä–ī–ł—ā–ĺ –≥–ĺ–≤–ĺ—Ä–ł—ā –ĺ–Ĺ–į. ‚ÄĒ –ú–Ĺ–Ķ –Ī—Ä–į—ā–į –Ĺ–į–ī–ĺ –ļ–ĺ—Ä–ľ–ł—ā—Ć. –ě–Ĺ –Ĺ–Ķ –Ľ—é–Ī–ł—ā –Ņ–ĺ—Ā—ā–ĺ—Ä–ĺ–Ĺ–Ĺ–ł—Ö.
–Į –ł–ī—É –ļ –ļ–į–Ľ–ł—ā–ļ–Ķ, –≤—Ā–Ņ—É–≥–ł–≤–į—Ź –Ņ–ĺ –Ņ—É—ā–ł –Ņ—ā–ł—Ü—É —Ā–ĺ —Ā—ā–Ķ–Ĺ—č –ī–ĺ–ľ–į. –Ě–į–≤–Ķ—Ä–Ĺ–ĺ–Ķ, —ā–ĺ–≥–ĺ –∂–Ķ –ī—Ź—ā–Ľ–į. –ü—Ä–ĺ—ā—Ź–∂–Ĺ–ĺ –≤—Ā–ļ—Ä–ł–ļ–ł–≤–į–Ķ—ā —É —Ā—ā–į–Ĺ—Ü–ł–ł —ć–Ľ–Ķ–ļ—ā—Ä–ł—á–ļ–į. –°–∑–į–ī–ł, –Ĺ–į–ī –ī–≤–ĺ—Ä–ĺ–ľ, —Ā–Ľ—č—ą–Ķ–Ĺ –∑–ĺ–≤:
‚ÄĒ –°–Ķ—Ä–Ķ–∂–į! –°–Ķ—Ä–Ķ–∂–Ķ–Ĺ—Ć–ļ–į! –ė–ī–ł –ĺ–Ī–Ķ–ī–į—ā—Ć... –ė–ī–ł, –Ĺ–Ķ –Ī–ĺ–Ļ—Ā—Ź. –Ě–Ķ—ā –Ĺ–ł–ļ–ĺ–≥–ĺ...
–ď–Ē–ē –Ę–ę –Ď–ę–õ –í–ě –í–†–ē–ú–Į –Ē–ě–Ė–Ē–Į?
–õ–Ķ—ā–ĺ–ľ –Ņ–ĺ–ī –ó–≤–Ķ–Ĺ–ł–≥–ĺ—Ä–ĺ–ī–ĺ–ľ –Ķ—Ā—ā—Ć —ā–ł—Ö–į—Ź —Ā—ā–į–Ĺ—Ü–ł—Ź –°–ļ–ĺ—Ä–ĺ—ā–ĺ–≤–ĺ. –ö–į–ļ –ł –Ī–ĺ–Ľ—Ć—ą–ł–Ĺ—Ā—ā–≤–ĺ –Ņ—Ä–ł–Ķ–∑–∂–į—é—Č–ł—Ö —Ā—é–ī–į –ī–į—á–Ĺ–ł–ļ–ĺ–≤, —Ź –Ĺ–Ķ –∑–Ĺ–į—é, —Ā—É—Č–Ķ—Ā—ā–≤—É–Ķ—ā –Ľ–ł –ĺ–Ĺ–į –∑–ł–ľ–ĺ–Ļ. –ü—č—ā–į—Ź—Ā—Ć —É–Ī–Ķ–∂–į—ā—Ć –ĺ—ā –ú–ĺ—Ā–ļ–≤—č –Ņ–ĺ–ī–į–Ľ—Ć—ą–Ķ, –∂–Ķ–Ľ–Ķ–∑–Ĺ–į—Ź –ī–ĺ—Ä–ĺ–≥–į –≤ –°–ļ–ĺ—Ä–ĺ—ā–ĺ–≤–Ķ –≤—č—ā—Ź–≥–ł–≤–į–Ķ—ā—Ā—Ź –≤ –ĺ–ī–Ĺ—É –ļ–ĺ–Ľ–Ķ—é. –Ę–į–ļ —á—ā–ĺ –≤—Ā–Ķ–≥–ī–į –Ĺ–Ķ–ľ–Ĺ–ĺ–∂–ļ–ĺ —ā—Ä–Ķ–≤–ĺ–∂–Ĺ–ĺ ‚ÄĒ –≤–ĺ–∑–≤—Ä–į—Č–į—é—ā—Ā—Ź –Ľ–ł —É—ą–Ķ–ī—ą–ł–Ķ –ī–į–Ľ—Ć—ą–Ķ, –≤ –ó–≤–Ķ–Ĺ–ł–≥–ĺ—Ä–ĺ–ī, —ć–Ľ–Ķ–ļ—ā—Ä–ł—á–ļ–ł?
–Ē–Ĺ–Ķ–≤–Ĺ–į—Ź —ā–ł—ą–ł–Ĺ–į —ā—Ź–∂–Ķ–Ľ–į –∑–į–Ņ–į—Ö–ĺ–ľ –ľ–Ĺ–ĺ–≥–ł—Ö —ā—Ä–į–≤. –õ–ł—ą—Ć –ł–∑—Ä–Ķ–ī–ļ–į –≤–Ķ—ā–Ķ—Ä –ł–∑ –Ľ–Ķ—Ā–į –Ņ–ĺ–ī–ľ–Ķ—ą–į–Ķ—ā –ļ –Ĺ–Ķ–Ļ —ā–Ķ—Ä–Ņ–ļ–ł–Ļ –ī—É—Ö —Ä–į–∑–ĺ–≥—Ä–Ķ—ā—č—Ö –Ĺ–į —Ā–ĺ–Ľ–Ĺ—Ü–Ķ —ą–Ņ–į–Ľ.
–Ď–Ķ–Ľ—č–Ķ –Ņ–Ķ–Ĺ–ł—Ā—ā—č–Ķ –ĺ—Ā—ā—Ä–ĺ–≤–ļ–ł —ā—č—Ā—Ź—á–Ķ–Ľ–ł—Ā—ā–Ĺ–ł–ļ–į, –∂–Ķ–Ľ—ā–ĺ-—Ā–ł—Ä–Ķ–Ĺ–Ķ–≤—č–Ļ –Ī—Ä–į—á–Ĺ—č–Ļ –Ĺ–į—Ä—Ź–ī –ł–≤–į–Ĺ-–ī–į-–ľ–į—Ä—Ć–ł, —Ä–Ķ–ī–ļ–ĺ–Ķ —Ä—Ź–Ī–ĺ–≤–į—ā–ĺ–Ķ –∑–ĺ–Ľ–ĺ—ā–ĺ –∑–≤–Ķ—Ä–ĺ–Ī–ĺ—Ź, –Ņ—Ä—Ź—á—É—Č–Ķ–≥–ĺ —Ā–≤–ĺ—é —Ü–Ķ–Ľ–Ķ–Ī–Ĺ—É—é —Ā–ł–Ľ—É —Ā—Ä–Ķ–ī–ł —á–Ķ—Ä–Ĺ–ĺ–Ī—č–Ľ—Ć–Ĺ–ł–ļ–į... –í—Ā–Ķ —ć—ā–ĺ –ľ–ĺ–ł –Ĺ–ĺ–≤—č–Ķ –∑–Ĺ–į–ļ–ĺ–ľ—č–Ķ, –ļ–ĺ—ā–ĺ—Ä—č—Ö —Ź, –≥–ĺ—Ä–ĺ–ī—Ā–ļ–ĺ–Ļ –∂–ł—ā–Ķ–Ľ—Ć, —Ā –Ĺ–Ķ—Ź—Ā–Ĺ–ĺ–Ļ —Ā—ā—Ä–į—Ā—ā—Ć—é —Ä–į–∑–≥–į–ī—č–≤–į–Ľ —Ā–Ĺ–į—á–į–Ľ–į –≤ –ļ–Ĺ–ł–≥–į—Ö, –į –Ņ–ĺ—ā–ĺ–ľ —É–∂–Ķ –Ĺ–į –≤–ĺ–Ľ–Ķ. –Į –Ņ—Ä–ĺ—á–ł—ā–į–Ľ —Ä–į–ī–ł –Ĺ–ł—Ö –ľ–Ĺ–ĺ–≥–ĺ —Ö–ĺ—Ä–ĺ—ą–ł—Ö –ł —É–ľ–Ĺ—č—Ö –ļ–Ĺ–ł–≥. –Ě–ĺ –Ī–ĺ–Ľ—Ć—ą–Ķ —É–ľ–Ĺ—č—Ö, –Ņ–ĺ—ā–ĺ–ľ—É —á—ā–ĺ, —É–≤–ł–ī–Ķ–≤ –≤–ī—Ä—É–≥ —Ā–ļ–Ľ–ĺ–Ĺ–Ķ–Ĺ–Ĺ—É—é –Ĺ–į–ī —ā—Ä–į–≤–į–ľ–ł —Ā—ā–į—Ä—É—ą–ļ—É, —Ź –≤—Ā–Ņ–ĺ–ľ–Ĺ–ł–Ľ: ¬ę... –∑–į–Ņ—Ä–Ķ—Č–į–Ķ—ā—Ā—Ź —Ā–ĺ–Ī–ł—Ä–į—ā—Ć —Ä–į—Ā—ā–Ķ–Ĺ–ł—Ź —É –∂–Ķ–Ľ–Ķ–∑–Ĺ–ĺ–ī–ĺ—Ä–ĺ–∂–Ĺ–ĺ–≥–ĺ –Ņ–ĺ–Ľ–ĺ—ā–Ĺ–į¬Ľ.
–Į –Ĺ–ł—á–Ķ–≥–ĺ –Ĺ–Ķ —Ā–ļ–į–∑–į–Ľ —Ā—ā–į—Ä—É—ą–ļ–Ķ, –Ņ—Ä–ĺ—ą–Ķ–Ľ –ľ–ł–ľ–ĺ.
–ź —á–Ķ—Ä–Ķ–∑ –Ĺ–Ķ—Ā–ļ–ĺ–Ľ—Ć–ļ–ĺ –ľ–Ķ—ā—Ä–ĺ–≤ —Ź –≤—Ā—ā—Ä–Ķ—ā–ł–Ľ –ł –Ķ–Ķ –≤–Ĺ—É—á–į—ā: –ĺ–ī–Ĺ–ĺ–≥–ĺ –Ľ–Ķ—ā —ą–Ķ—Ā—ā–ł, –ī—Ä—É–≥–ĺ–≥–ĺ ‚ÄĒ —ā—Ä–Ķ—Ö. –°–≤–Ķ—ā–Ľ—č–Ķ-—Ā–≤–Ķ—ā–Ľ—č–Ķ –≤–ĺ–Ľ–ĺ—Ā—č –ł—Ö –Ī—č–Ľ–ł, –ļ–į–∑–į–Ľ–ĺ—Ā—Ć, –ĺ–ľ—č—ā—č –Ľ–Ķ—Ā–Ĺ—č–ľ–ł –ī–ĺ–∂–ī—Ź–ľ–ł –ł —Ā–ĺ–≥—Ä–Ķ—ā—č —ā–Ķ–Ņ–Ľ—č–ľ –ī—č—Ö–į–Ĺ–ł–Ķ–ľ –Ņ—Ä–ł–ī–ĺ—Ä–ĺ–∂–Ĺ–ĺ–≥–ĺ —Ä–į–∑–Ĺ–ĺ—ā—Ä–į–≤—Ć—Ź. –Ď–Ķ–Ľ–ĺ–≥–ĺ–Ľ–ĺ–≤–ł–ļ–ł, –ļ–į–ļ —Ź —ā—É—ā –∂–Ķ –ĺ–ļ—Ä–Ķ—Ā—ā–ł–Ľ –ł—Ö –ī–Ľ—Ź —Ā–Ķ–Ī—Ź, –Ĺ–į–Ī–ł—Ä–į–Ľ–ł—Ā—Ć –Ī–į–Ī–ļ–ł–Ĺ–ĺ–Ļ –ľ—É–ī—Ä–ĺ—Ā—ā–ł, —á—ā–ĺ-—ā–ĺ —Ā—ā–į—Ä–į—ā–Ķ–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ –≤—č–ł—Ā–ļ–ł–≤–į—Ź –≤ —Ü–≤–Ķ—ā–į—Ö –ł –∑–Ķ–Ľ–Ķ–Ĺ–ł. –ź –ľ–Ĺ–Ķ –ī–Ľ—Ź —ć—ā–ĺ–≥–ĺ –Ņ—Ä–ł—ą–Ľ–ĺ—Ā—Ć –Ņ—Ä–ĺ—á–Ķ—Ā—ā—Ć –ľ–Ĺ–ĺ–≥–ĺ —É–ľ–Ĺ—č—Ö –ł —Ö–ĺ—Ä–ĺ—ą–ł—Ö –ļ–Ĺ–ł–≥. –Ě–ĺ –≤—Ā–Ķ-—ā–į–ļ–ł –Ī–ĺ–Ľ—Ć—ą–Ķ —É–ľ–Ĺ—č—Ö, –Ņ–ĺ—ā–ĺ–ľ—É —á—ā–ĺ, –Ņ—Ä–ĺ–Ļ–ī—Ź –Ĺ–Ķ–ľ–Ĺ–ĺ–≥–ĺ, —É—Ā–Ľ—č—Ö–į–Ľ —Ź —ā–ĺ–Ņ–ĺ—ā–ĺ–ļ —Ā–∑–į–ī–ł –ł, –ĺ–≥–Ľ—Ź–Ĺ—É–≤—ą–ł—Ā—Ć, –≤—Ā—ā—Ä–Ķ—ā–ł–Ľ –Ņ–ĺ–Ľ–Ĺ—č–Ļ –Ĺ–Ķ–ī–ĺ—É–ľ–Ķ–Ĺ–ł—Ź –≤–∑–≥–Ľ—Ź–ī –Ī–Ķ–Ľ–ĺ–≥–ĺ–Ľ–ĺ–≤–ł–ļ–į –Ī–ĺ–Ľ—Ć—ą–Ķ–Ĺ—Ć–ļ–ĺ–≥–ĺ.
‚ÄĒ –ó–ī—Ä–į–≤—Ā—ā–≤—É–Ļ—ā–Ķ, ‚ÄĒ —Ā–ļ–į–∑–į–Ľ –ĺ–Ĺ.
‚ÄĒ –Ě—É –ļ–ĺ–Ĺ–Ķ—á–Ĺ–ĺ, ‚ÄĒ —Ā–ļ–į–∑–į–Ľ —Ź. ‚ÄĒ –ė–∑–≤–ł–Ĺ–ł. –ó–ī—Ä–į–≤—Ā—ā–≤—É–Ļ.
–ě—ā–≤–Ķ—Ä–Ĺ—É–Ľ—Ā—Ź –ł —ą–į–≥–Ĺ—É–Ľ –Ī—č–Ľ–ĺ. –Ě–ĺ —ā–ĺ–Ņ–ĺ—ā–ĺ–ļ, –≤–ĺ–∑–Ĺ–ł–ļ–Ĺ—É–≤ –≤–Ĺ–ĺ–≤—Ć, –Ĺ–į—Ā—ā–ł–≥ –ľ–Ķ–Ĺ—Ź –ł —Ā–ľ–ĺ–Ľ–ļ, –ļ–ĺ–≥–ī–į —Ź, —Ä–ĺ—Ź—Ā—Ć –≤ –Ņ—Ä–ĺ—á–ł—ā–į–Ĺ–Ĺ–ĺ–ľ, –≤–ĺ –≤—Ā–Ķ–ľ, –Ņ—Ä–ĺ—á–ł—ā–į–Ĺ–Ĺ–ĺ–ľ –ľ–Ĺ–ĺ—é, –ĺ–≥–Ľ—Ź–Ĺ—É–Ľ—Ā—Ź.
‚ÄĒ –Ē–ĺ —Ā–≤–ł–ī–į–Ĺ–ł—Ź, ‚ÄĒ –Ņ—Ä–ĺ—ą–Ķ–Ņ—ā–į–Ľ –ĺ–Ĺ —É–ļ–ĺ—Ä–ł–∑–Ĺ–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ. –†—Ź–ī–ĺ–ľ —Ā –Ĺ–ł–ľ –ļ—Ä–Ķ–Ņ–ļ–ĺ–Ļ –Ņ–ĺ–ī–Ņ–ĺ—Ä–ĺ—á–ļ–ĺ–Ļ —Ā—ā–ĺ—Ź–Ľ –ľ–Ľ–į–ī—ą–ł–Ļ.
‚ÄĒ –ź—Ö —ā—č, –ď–ĺ—Ā–Ņ–ĺ–ī–ł, –Ņ–ĺ–ľ–ł–Ľ—É–Ļ, ‚ÄĒ —Ā–ļ–į–∑–į–Ľ —Ź —ā–ĺ–∂–Ķ —ą–Ķ–Ņ–ĺ—ā–ĺ–ľ, —á—ā–ĺ–Ī—č –Ĺ–Ķ –ł—Ā–Ņ—É–≥–į—ā—Ć —ć—ā–ĺ—ā –ľ–į–Ľ–Ķ–Ĺ—Ć–ļ–ł–Ļ –ľ–ł—Ä –Ĺ–į—ą. ‚ÄĒ –Ē–ĺ —Ā–≤–ł–ī–į–Ĺ–ł—Ź, –ī–ĺ —Ā–≤–ł–ī–į–Ĺ–ł—Ź.
–ě –≥—É–Ī–ł—ā–Ķ–Ľ—Ć–Ĺ–į, –Ī–į–Ī–ļ–į, –ľ—É–ī—Ä–ĺ—Ā—ā—Ć —ā–≤–ĺ—Ź!
–Į –Ņ—Ä–ł–Ī–į–≤–ł–Ľ —ą–į–≥—É, –ļ–į–ļ –≤—Ā–Ķ–≥–ī–į, –Ņ—č—ā–į—Ź—Ā—Ć —É–Ī–Ķ–∂–į—ā—Ć –ĺ—ā —ā–ĺ–≥–ĺ, —á—ā–ĺ –Ĺ–Ķ –Ņ–ĺ–Ĺ—Ź–Ľ —Ā –Ņ–Ķ—Ä–≤–ĺ–≥–ĺ —Ä–į–∑–į.
–•–ĺ—Ä–ĺ—ą–ĺ, —á—ā–ĺ —É –Ĺ–į—Ā –Ķ—Ā—ā—Ć –ī–Ķ–Ľ–į, –ļ–ĺ—ā–ĺ—Ä—č–Ķ –∂–ī—É—ā –Ĺ–į—Ā –ł –Ņ–ĺ–ī–≥–ĺ–Ĺ—Ź—é—ā. –ė –ľ—č –≤—Ā–Ķ —Ā–≤–į–Ľ–ł–≤–į–Ķ–ľ –≤ –Ņ–į–ľ—Ź—ā—Ć, –Ĺ–į–ī–Ķ—Ź—Ā—Ć –ł –ł—Ā–ļ—Ä–Ķ–Ĺ–Ĺ–Ķ –≤–Ķ—Ä—Ź, —á—ā–ĺ –Ņ—Ä–ł–ī–Ķ—ā –≤—Ä–Ķ–ľ—Ź, –ł –ľ—č –≤–ĺ –≤—Ā–Ķ–ľ —Ä–į–∑–Ī–Ķ—Ä–Ķ–ľ—Ā—Ź –ł –Ņ–ĺ–Ļ–ľ–Ķ–ľ... –Ď—É–ī—ā–ĺ –Ķ—Ā–Ľ–ł —ć—ā–ĺ –ł –≤ —Ā–į–ľ–ĺ–ľ –ī–Ķ–Ľ–Ķ –Ņ—Ä–ĺ–ł–∑–ĺ–Ļ–ī–Ķ—ā, –Ĺ–į—Ā –ļ—ā–ĺ-—ā–ĺ –Ņ–ĺ—Ö–≤–į–Ľ–ł—ā –ł –ī–į—Ā—ā –Ĺ–į–ľ –Ņ–ĺ–ļ–ĺ–Ļ...
–ú–Ķ–Ĺ—Ź –∂–ī–į–Ľ–ł –Ĺ–į –ī–į—á–Ķ. –Ė–ī–į–Ľ–ł –ľ–ĺ–ł –ī—Ä—É–∑—Ć—Ź –ł, –ľ–ĺ–∂–Ķ—ā –Ī—č—ā—Ć, –Ľ—é–Ī–ĺ–≤—Ć –ľ–ĺ—Ź. –ė —Ź —Ā–Ņ–Ķ—ą–ł–Ľ, —Ā–ĺ–Ķ–ī–ł–Ĺ–Ķ–Ĺ–Ĺ—č–Ļ —Ā –Ĺ–ł–ľ–ł —ā–į–Ļ–Ĺ—č–ľ –∑–į–≥–ĺ–≤–ĺ—Ä–ĺ–ľ –≥–ĺ—Ä–ĺ–∂–į–Ĺ, –Ī–ĺ—Ź—Č–ł—Ö—Ā—Ź –Ņ–ĺ–ĺ–ī–ł–Ĺ–ĺ—á–ļ–Ķ –Ľ–Ķ—Ā–į, —Ä–Ķ–ļ–ł, –≥–ĺ—Ä, –Ĺ–ĺ –Ņ—Ä–ł–≤—č–ļ—ą–ł—Ö –ł–∑–ī–į–Ľ–ł –≤–ĺ—Ā—Ö–ł—Č–į—ā—Ć—Ā—Ź –ł–ľ–ł.
–°–ĺ–Ļ–ī—Ź —Ā –Ĺ–į—Ā—č–Ņ–ł, –Ņ—Ä–Ķ–∂–ī–Ķ, —á–Ķ–ľ —É–Ļ—ā–ł –≤ –Ľ–Ķ—Ā, —Ź –ĺ–≥–Ľ—Ź–Ĺ—É–Ľ—Ā—Ź. –°—ā–ĺ–Ľ–Ī–ł–ļ —Ā –ļ–ł–Ľ–ĺ–ľ–Ķ—ā—Ä–ĺ–≤–ĺ–Ļ –ĺ—ā–ľ–Ķ—ā–ļ–ĺ–Ļ –ł –Ľ–ł–Ĺ–ł—Ź –∂–Ķ–Ľ–Ķ–∑–Ĺ–ĺ–Ļ –ī–ĺ—Ä–ĺ–≥–ł –ĺ—Ā—ā–į–≤–į–Ľ–ł—Ā—Ć —Ā–∑–į–ī–ł, –ļ–į–ļ –≥—Ä–į–Ĺ–ł—Ü–į.
–°–ļ–ĺ–Ľ—Ć–ļ–ĺ —Ä–į–∑ –ī–į–≤–į–Ľ —Ā–Ķ–Ī–Ķ –∑–į—Ä–ĺ–ļ –Ĺ–Ķ –ļ—É—Ä–ł—ā—Ć –≤ –Ľ–Ķ—Ā—É. –Ē—č—ą–ł, –≤–Ķ–ī—Ć –Ľ–Ķ–≥–ļ–ł–Ķ –≤ –≥–ĺ—Ä–ĺ–ī–Ķ... –ė —á—ā–ĺ-–Ĺ–ł–Ī—É–ī—Ć –ł–∑ —É–ľ–Ĺ–ĺ–Ļ –ļ–Ĺ–ł–≥–ł. –Ě–ĺ –Ĺ–Ķ—ā, –Ĺ–Ķ—ā. –°—ā—Ä–į—ą–Ĺ–ĺ. –ó–į–Ņ–į—Ö–ł –Ľ–Ķ—Ā–į —Ā–ł–Ľ—Ć–Ĺ–Ķ–Ķ –∑–į–Ņ–į—Ö–ĺ–≤ —ā—Ä–į–≤, –≤ –ļ—Ä–ĺ–≤–ł –ľ–ĺ–Ķ–Ļ, –ī—É—ą–į—ā —Ā–Ķ—Ä–ī—Ü–Ķ, –ī—É—Ä–ľ–į–Ĺ—Ź—ā –≥–ĺ–Ľ–ĺ–≤—É. –ē—Ā–Ľ–ł –ł –ĺ—Ā—ā–į–Ľ—Ā—Ź –Ľ–Ķ—ą–ł–Ļ –≤ –Ľ–Ķ—Ā—É, —ā–ĺ —á–į—Ā—ā—Ć –Ķ–≥–ĺ ‚ÄĒ –≤ –∑–į–Ņ–į—Ö–į—Ö. –ě–Ĺ–ł –∑–į–ļ—Ä—É–∂–į—ā, –∑–į–≤–Ķ–ī—É—ā, –ł –Ĺ–ł–ļ–ĺ–≥–ī–į –Ĺ–Ķ –ĺ—ā—č—Č–Ķ—ą—Ć –ī–ĺ—Ä–ĺ–≥–ł. –ė —É–∂–Ķ —ā–ĺ–≥–ī–į, –Ĺ–į–Ļ–ī—Ź –≤ –Ľ–Ķ—Ā–Ĺ–ĺ–Ļ –≥–ĺ–Ľ—č—ā—Ć–Ī–Ķ –ī—É—ą–ł —Ä–ĺ–ī—Ā—ā–≤–Ķ–Ĺ–Ĺ—č–Ķ, —Ź –∑–į–Ī—É–ī—É —Ź–∑—č–ļ —É–ľ–Ĺ—č—Ö –ļ–Ĺ–ł–≥, –Ĺ–ĺ –Ņ–ĺ–∑–Ĺ–į—é —Ā–Ľ–ĺ–≤–į —Ā–ĺ–ļ—Ä–ĺ–≤–Ķ–Ĺ–Ĺ—č–Ķ... –°—ā—Ä–į—ą–Ĺ–ĺ...
–ö–į–ļ –Ī—č –ĺ—Ā–Ķ—Ä—á–į–≤ –Ĺ–į —Ä–ĺ–Ī–ĺ—Ā—ā—Ć –ľ–ĺ—é, –Ľ–Ķ—Ā –∑–į—ą—É–ľ–Ķ–Ľ, –Ņ—Ä–ł–∑—č–≤–į—Ź –≤–Ķ—ā–Ķ—Ä, –∑–į–Ņ–Ľ–Ķ–Ľ —ā—Ä–ĺ–Ņ—č –ļ–ĺ—Ä–Ĺ—Ź–ľ–ł, –Ņ–ĺ–ļ–į–∑–į–Ľ –Ĺ–Ķ–Ĺ–į–ī–ĺ–Ľ–≥–ĺ, –ļ–į–ļ –ĺ—ā–≤–Ķ—Ä–≥–Ĺ—É—ā—É—é –ľ–Ĺ–ĺ—é –Ĺ–į–≥—Ä–į–ī—É, –ĺ—Ā—ā—Ä–ĺ–≤–ĺ–ļ —Ā–ł–Ĺ–Ķ–≥–ĺ –Ĺ–Ķ–Ī–į... –ė –Ī—É–ī–Ķ—ā –≥—Ä–ĺ–∑–į —ā–Ķ–Ī–Ķ –ļ–į—Ä–ĺ–Ļ... –£—Ā–Ņ–Ķ–Ľ –∑–į–ľ–Ķ—ā–ł—ā—Ć –ļ—Ä–į–Ķ–ľ –≥–Ľ–į–∑–į –ļ–į–Ņ–Ľ—é ¬ę–≤–ĺ–Ľ—ą–Ķ–Ī–Ĺ–ĺ–Ļ¬Ľ —Ä–ĺ—Ā—č –Ĺ–į –Ľ–į–ī–ĺ–Ĺ–ł –ľ–į–Ĺ–∂–Ķ—ā–Ĺ–ł–ļ–į...
... –í –ĺ–∂–ł–ī–į–Ĺ–ł–ł –≥—Ä–ĺ–∑—č –ľ–ł—Ä —Ā—É–∑–ł–Ľ—Ā—Ź –ī–ĺ —Ä–į–∑–ľ–Ķ—Ä–ĺ–≤ –Ĺ–į—ą–Ķ–Ļ —Ā —ā–ĺ–Ī–ĺ–Ļ –ļ–ĺ–ľ–Ĺ–į—ā—č. –ó–į–ļ—Ä—č—ā—Ć –≤—Ā–Ķ –ĺ–ļ–Ĺ–į, —Ą–ĺ—Ä—ā–ĺ—á–ļ–ł, –ī–≤–Ķ—Ä–ł –ī–Ľ—Ź –Ņ–ĺ–ļ–ĺ—Ź –ī–ĺ–ľ–į—ą–Ĺ–ł—Ö, –ļ–į–ļ –ĺ–Ĺ–ł –ļ—Ä–ł—á–į—ā: –≥—Ä–ĺ–∑–į, –≥—Ä–ĺ–∑–į! —Ā–ļ–≤–ĺ–∑–Ĺ—Ź–ļ, –≤—Ā–Ķ –Ņ–ĺ–Ī—Ć–Ķ—ā... –ł –Ņ–ĺ–ī–Ĺ–ł–ľ–į–Ķ—ā—Ā—Ź –ľ–ł–Ľ–į—Ź –≤—Ā–Ķ–ľ —Ā—É–ľ–į—ā–ĺ—Ö–į, –ł —á—ā–ĺ-—ā–ĺ –ĺ–Ī—Ź–∑–į—ā–Ķ–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ —Ä–į–∑–Ī–ł–≤–į–Ķ—ā—Ā—Ź. –Ė–ī–į—ā—Ć. –Ě–ĺ –ľ–ĺ–Ľ–Ĺ–ł—Ź... –Ĺ–ĺ –≥—Ä–ĺ–ľ... –Ė–ī–į—ā—Ć. –ú–ĺ–Ľ–Ĺ–ł—Ź. –Ě–į –ľ–≥–Ĺ–ĺ–≤–Ķ–Ĺ–ł–Ķ –∑–į—Ā—ā—č–Ĺ—É—ā, –≤—č—Ö–≤–į—á–Ķ–Ĺ–Ĺ—č–Ķ –ł–∑ —ā–Ķ–ľ–Ĺ–ĺ—ā—č, –ļ–Ĺ–ł–∂–Ĺ—č–Ķ –Ņ–ĺ–Ľ–ļ–ł –ł –ľ–Ķ—Ä—ā–≤–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ-–Ī–Ľ–Ķ–ī–Ĺ—č–Ķ –ļ–ĺ—Ä–Ķ—ą–ļ–ł –ļ–Ĺ–ł–≥, –ĺ–ī–Ķ—Ź–Ľ–ĺ –Ĺ–į —ā–≤–ĺ–ł—Ö –ļ–ĺ–Ľ–Ķ–Ĺ—Ź—Ö, –ī–ł–ļ–ĺ–≤–ł–Ĺ–Ĺ—č–ľ –Ī–Ķ–Ľ—č–ľ —Ü–≤–Ķ—ā–ļ–ĺ–ľ –Ņ—Ä–ł–∂–į—ā–į—Ź –ļ –≥—Ä—É–ī–ł —ā–≤–ĺ—Ź —Ä–į—Ā–ļ—Ä—č—ā–į—Ź –Ľ–į–ī–ĺ–Ĺ—Ć. –ď—Ä–ĺ–ľ. –ė –≤—Ā–Ķ –∑–į—ā–ł—Ö–Ĺ—É—ā –≤ —ā–Ķ—Ä–Ņ–Ķ–Ľ–ł–≤–ĺ–Ļ –ł —ā–ł—Ö–ĺ–Ļ —Ä–į–ī–ĺ—Ā—ā–ł, —á—ā–ĺ –≤–ĺ—ā –Ņ—Ä–ĺ–ł–∑–ĺ–Ļ–ī–Ķ—ā, –≤–ĺ—ā –ļ–ĺ–Ĺ—á–ł—ā—Ā—Ź, –ł —ā–ĺ–≥–ī–į, –Ņ–ĺ—Ā–Ľ–Ķ —ā–Ķ–Ņ–Ľ–ĺ–≥–ĺ —ą–į–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ–≥–ĺ –Ľ–ł–≤–Ĺ—Ź, –ĺ—ā–ļ—Ä—č—ā—Ć –≤—Ā–Ķ –ĺ–ļ–Ĺ–į (–ļ–į–ļ–ĺ–Ļ –∑–į–Ņ–į—Ö, —ā—č —ā–ĺ–Ľ—Ć–ļ–ĺ –≤–ī–ĺ—Ö–Ĺ–ł; –ĺ–∑–ĺ–Ĺ; —Ą—É, –ļ–į–ļ —Ā–ļ—É—ą–Ĺ–ĺ; —Ö–ĺ—Ä–ĺ—ą–ĺ, –Ĺ–Ķ –ĺ–∑–ĺ–Ĺ, ¬ę–®–į–Ĺ–Ķ–Ľ—ƬĽ; –ĺ–Ī–ł–ī–Ķ–Ľ–į—Ā—Ć).
–Į –∑–Ĺ–į—é, –∑–į—á–Ķ–ľ –Ľ–Ķ—Ā—É –Ĺ—É–∂–Ķ–Ĺ –Ľ–ł–≤–Ķ–Ĺ—Ć. –≠—ā–ĺ: –Ņ—Ä–ĺ–ľ–ĺ—á–ł—ā—Ć –Ľ–ł—Ā—ā—Ć—Ź –ł —ā—Ä–į–≤—č, –Ĺ–į–Ņ–ł—ā–į—ā—Ć –ł—Ö –Ĺ–ĺ–≤—č–ľ–ł –∑–į–Ņ–į—Ö–į–ľ–ł; —ć—ā–ĺ: –ī–ĺ–Ī—Ä–į—ā—Ć—Ā—Ź –ī–ĺ –ľ–ĺ–ł—Ö –Ņ–į–Ņ–ł—Ä–ĺ—Ā... ¬ę–ó–ī—Ä–į–≤—Ā—ā–≤—É–Ļ—ā–Ķ. ‚ÄĒ –Ē–ĺ —Ā–≤–ł–ī–į–Ĺ–ł—Ź¬Ľ. –°–ļ–ĺ–Ľ—Ć–ļ–ĺ —Ä–į–∑ –≥–ĺ–≤–ĺ—Ä–ł–Ľ–ł –ľ–Ĺ–Ķ —Ü–≤–Ķ—ā—č –ł —ā—Ä–į–≤—č, –ĺ—ā–ļ—Ä—č–≤–į—Ź—Ā—Ć –ł –∑–į–ļ—Ä—č–≤–į—Ź—Ā—Ć –ļ–į–∂–ī—č–Ļ –ī–Ķ–Ĺ—Ć, —ā–Ķ—Ä–Ņ–Ķ–Ľ–ł–≤–ĺ –ĺ–∂–ł–ī–į—Ź –≤—Ā—ā—Ä–Ķ—á–ł –ł –ĺ—ā–≤–Ķ—ā—č. –ė —ā—č, –Ę—č ‚ÄĒ —Ä–į–ī—É—Ź—Ā—Ć (–∑–ī—Ä–į–≤—Ā—ā–≤—É–Ļ) –ł –ĺ–Ī–ł–∂–į—Ź—Ā—Ć (–ī–ĺ —Ā–≤–ł–ī–į–Ĺ–ł—Ź)... –Ě–ł—á–Ķ–≥–ĺ, —Ź –Ĺ–į—É—á–ł–Ľ—Ā—Ź –ļ—É—Ä–ł—ā—Ć –≤ –ī–ĺ–∂–ī—Ć. –Ě–ł—á–Ķ–≥–ĺ, –į–≤–ĺ—Ā—Ć, –≥–Ľ—É—Ö–ĺ—ā–į –ľ–ĺ—Ź –ľ–Ĺ–Ķ –∂–Ķ –ł –≤–ĺ —Ā–Ņ–į—Ā–Ķ–Ĺ–ł–Ķ. –Ē–į–Ļ—ā–Ķ –Ņ–ĺ–ī—É–ľ–į—ā—Ć, –Ņ–ĺ–ļ–į –ł–ī–Ķ—ā –ī–ĺ–∂–ī—Ć... –ď—Ä–ĺ–ľ –ł –ľ–ĺ–Ľ–Ĺ–ł—Ź. –ě —á–Ķ–ľ –Ņ–ĺ–ī—É–ľ–į—ā—Ć? –ö–į–ļ —Ā–Ņ—Ä—Ź—ā–į—ā—Ć—Ā—Ź –ĺ—ā –≥—Ä–ĺ–∑—č? –ó–į–Ī—č–Ľ. –ß–ł—ā–į–Ľ, –Ĺ–ĺ –∑–į–Ī—č–Ľ. –ö–į–ļ –Ĺ–Ķ –∑–į–Ī–Ľ—É–ī–ł—ā—Ć—Ā—Ź –≤ –Ľ–Ķ—Ā—É? –ó–į–Ī—č–Ľ... –í—Ā–Ņ–ĺ–ľ–Ĺ—é. –ē—Ā–Ľ–ł –Ī—č —ā—č —Ā–Ķ–Ļ—á–į—Ā –Ī—č–Ľ–į –∑–ī–Ķ—Ā—Ć. –Ę—č –≤–Ķ–ī—Ć –Ĺ–Ķ –≤—Ā–ļ—Ä–ł–ļ–ł–≤–į–Ķ—ą—Ć –Ņ—Ä–ł—ā–≤–ĺ—Ä–Ĺ–ĺ –Ņ—Ä–ł –≥—Ä–ĺ–∑–Ķ. –ü—Ä–į–≤–ĺ –∂–Ķ, –≤ –Ľ–Ķ—Ā—É –ľ–ĺ–∂–Ĺ–ĺ –∑–į–Ī—č—ā—Ć –ĺ –≤—Ā–Ķ–Ļ —ā–ĺ–Ļ –ī—Ä—Ź–Ĺ–ł, —á—ā–ĺ —ā–į–ļ –Ī—č—Ā—ā—Ä–ĺ –Ņ—Ä–ł—Ā—ā–į–Ķ—ā –ļ —ā–Ķ–Ī–Ķ –≤ –≥–ĺ—Ä–ĺ–ī–Ķ. –Ę—č –ĺ–Ī–ł–ī–Ķ–Ľ–į—Ā—Ć? –Ě–į–Ņ—Ä–į—Ā–Ĺ–ĺ, —Ź –∂–Ķ –≤–ł–∂—É, –ļ–į–ļ —ā—č –Ņ—č—ā–į–Ķ—ą—Ć—Ā—Ź –Ņ—Ä–ĺ—ā–ł–≤–ĺ—Ā—ā–ĺ—Ź—ā—Ć. –Ę—č —É –ľ–Ķ–Ĺ—Ź –ľ–ĺ–Ľ–ĺ–ī–Ķ—Ü. –°—ā–ĺ–Ļ–ļ–ł–Ļ –ĺ–Ľ–ĺ–≤—Ź–Ĺ–Ĺ—č–Ļ —Ā–ĺ–Ľ–ī–į—ā–ł–ļ... –°—ā—Ä–į—ą–Ĺ–ĺ.
–†–į–∑–≤–Ķ –ľ—č –Ĺ–Ķ –≤ –Ľ–Ķ—Ā—É? –í –≥–ĺ—Ä–ĺ–ī–Ķ? –•–ĺ—Ä–ĺ—ą–ĺ, –Ņ–ĺ–Ļ–ī–Ķ–ľ –≥—É–Ľ—Ź—ā—Ć, —Ź –∂–Ķ –∑–Ĺ–į—é, —ā—č –Ľ—é–Ī–ł—ą—Ć –≥—É–Ľ—Ź—ā—Ć –≤–Ķ—á–Ķ—Ä–ĺ–ľ –Ņ–ĺ—Ā–Ľ–Ķ –ī–ĺ–∂–ī—Ź. –ė —á—ā–ĺ–Ī—č —Ź –ĺ–Ī—Ź–∑–į—ā–Ķ–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ –Ĺ–į—Ä–≤–į–Ľ —ā–Ķ–Ī–Ķ —Ü–≤–Ķ—ā–ĺ–≤ —Ā –ļ–Ľ—É–ľ–Ī—č –≤ –Ĺ–į—ą–Ķ–ľ —Ā–ļ–≤–Ķ—Ä–ł–ļ–Ķ. –≠—ā–ĺ –Ĺ–Ķ –≤–ĺ—Ä–ĺ–≤—Ā—ā–≤–ĺ?
–í –ī–ĺ–∂–ī—Ć, –ļ–į–ļ –ĺ—Ā–Ķ–Ĺ—Ć—é, –Ņ–į–ľ—Ź—ā—Ć —Ä–į—Ā–ļ—Ä—č–≤–į–Ķ—ā—Ā—Ź –Ĺ–į–≤—Ā—ā—Ä–Ķ—á—É —Ā—É—Č–Ķ–ľ—É –ł —á—É—ā–ļ–ĺ –≤—Ā–ľ–į—ā—Ä–ł–≤–į–Ķ—ā—Ā—Ź –≤ –Ľ—é–Ī–ĺ–Ļ –Ķ–≥–ĺ –∑–Ĺ–į–ļ.
–Ě–Ķ—ā, –Ľ–Ķ—Ā, —Ź —É—ą–Ķ–Ľ –ĺ—ā —ā–Ķ–Ī—Ź. –ź –≤–Ķ—Ä–Ĺ–Ķ–Ķ, –ł –Ĺ–Ķ –Ņ—Ä–ł—Ö–ĺ–ī–ł–Ľ. –•–ĺ—ā—Ć –ł –Ī–Ķ—Ā–ļ–ĺ–Ĺ–Ķ—á–Ĺ—č –ī–ĺ–∂–ī–ł —ā–≤–ĺ–ł, –Ĺ–ĺ –Ņ–į–ľ—Ź—ā—Ć, –Ņ–į–ľ—Ź—ā—Ć –ľ–ĺ—Ź –∂–ł–≤–į –Ĺ–Ķ —ā–ĺ–Ī–ĺ–Ļ. –Ę–į–ļ —á—ā–ĺ –ī–į–≤–į–Ļ, –ĺ—ā–Ņ—É—Ā–ļ–į–Ļ –ľ–Ķ–Ĺ—Ź –ł–∑ –Ņ–Ľ–Ķ–Ĺ–į. –ú–Ķ–Ĺ—Ź –∂–ī—É—ā...
–Ē—É–Ī, –Ņ–ĺ–ī –ļ–ĺ—ā–ĺ—Ä—č–ľ —Ź –Ĺ–į—ą–Ķ–Ľ –ļ—Ä–ĺ–≤, –Ĺ–į–ī–Ķ–∂–Ĺ–ĺ —Ā–Ņ—Ä—Ź—ā–į–Ľ –ľ–Ķ–Ĺ—Ź. –ė –ļ–ĺ–≥–ī–į —Ź –≤—č—ą–Ķ–Ľ –ł–∑ –Ľ–Ķ—Ā–į, —ā–ĺ–Ľ—Ć–ļ–ĺ –Ĺ–ĺ–≥–ł –ľ–ĺ–ł –Ī—č–Ľ–ł –ľ–ĺ–ļ—Ä—č –Ņ–ĺ –ļ–ĺ–Ľ–Ķ–Ĺ–ĺ ‚ÄĒ —ć—ā–ĺ —ā—Ä–į–≤—č –Ĺ–į–Ņ–ĺ–ľ–ł–Ĺ–į–Ľ–ł –ĺ —Ā–Ķ–Ī–Ķ.
–Ď–ĺ–Ľ—Ć—ą–ĺ–Ļ —á–Ķ—Ä–Ĺ—č–Ļ –Ņ–Ķ—Ā –≤–ī–į–Ľ–Ķ–ļ–Ķ –Ņ—Ä—č–≥–į–Ľ —Ä—Ź–ī–ĺ–ľ —Ā–ĺ –∑–Ĺ–į–ļ–ĺ–ľ–ĺ–Ļ —Ą–ł–≥—É—Ä–ļ–ĺ–Ļ, —Ā–Ņ–Ķ—ą–į—Č–Ķ–Ļ –Ĺ–į–≤—Ā—ā—Ä–Ķ—á—É –ľ–Ĺ–Ķ. –Į –Ņ–ĺ—á—ā–ł –Ņ–ĺ–Ī–Ķ–∂–į–Ľ. –ü–ĺ—ā–ĺ–ľ –Ņ–ĺ–Ī–Ķ–∂–į–Ľ. –Į –≤–ł–ī–Ķ–Ľ —ā—É, —á—ā–ĺ –ī–į—Ä–ł–Ľ–į –ľ–Ķ–Ĺ—Ź –Ľ—é–Ī–ĺ–≤—Ć—é –ł –ļ–ĺ—ā–ĺ—Ä–ĺ–Ļ —Ź —Ā–Ķ–Ļ—á–į—Ā —Ā–Ņ–Ķ—ą–ł–Ľ –ĺ—ā–ī–į—ā—Ć —Ā–≤–ĺ—é. –Ę–į–ļ —É –Ĺ–į—Ā –Ĺ–į –∑–Ķ–ľ–Ľ–Ķ –∑–į–≤–Ķ–ī–Ķ–Ĺ–ĺ.
–ú—č —Ā–Ī–Ľ–ł–∂–į–Ľ–ł—Ā—Ć, –ł —É–∂–Ķ –Ľ–ł—Ü–ĺ –ľ–ĺ–Ķ –ĺ—Č—É—Č–į–Ľ–ĺ —ā–Ķ–Ņ–Ľ–ĺ —ā–≤–ĺ–Ķ–≥–ĺ –≤–∑–≥–Ľ—Ź–ī–į... –í–ī—Ä—É–≥ —ā–≤–ĺ–Ļ –Ĺ—Ć—é—Ą –ĺ—Ā—ā–į–Ĺ–ĺ–≤–ł–Ľ—Ā—Ź, –∑–į—Ä—č—á–į–Ľ –ł —Ā—ā–į–Ľ –Ņ—Ź—ā–ł—ā—Ć—Ā—Ź –ĺ—ā –ľ–Ķ–Ĺ—Ź, –Ņ—Ä–ł–∂–ł–ľ–į—Ź—Ā—Ć –ļ –Ĺ–ĺ–≥–į–ľ —ā–≤–ĺ–ł–ľ, –Ĺ–Ķ –Ņ—É—Ā–ļ–į—Ź —ā–Ķ–Ī—Ź. –ė —ā—č, –ľ–ĺ–ļ—Ä–į—Ź –Ĺ–į—Ā–ļ–≤–ĺ–∑—Ć, –ĺ—Ā—ā–į–Ĺ–ĺ–≤–ł–Ľ–į—Ā—Ć, –ĺ—ā–ļ–ł–Ĺ—É–≤ –Ņ—Ä–ł–Ľ–ł–Ņ—ą—É—é –ļ –Ľ–ł—Ü—É –Ņ—Ä—Ź–ī—Ć –≤–ĺ–Ľ–ĺ—Ā.
‚ÄĒ –Ę—č —Ā—É—Ö–ĺ–Ļ, ‚ÄĒ —Ā–ļ–į–∑–į–Ľ–į —ā—č –ł—Ā–Ņ—É–≥–į–Ĺ–Ĺ–ĺ.
‚ÄĒ –Ě—É –ī–į, ‚ÄĒ —Ź –Ķ—Č–Ķ —É–Ľ—č–Ī–į–Ľ—Ā—Ź. ‚ÄĒ –Į —Ö–ĺ—á—É —Ā–ļ–į–∑–į—ā—Ć —ā–Ķ–Ī–Ķ...
‚ÄĒ –ü–ĺ–ī–ĺ–∂–ī–ł, ‚ÄĒ —á—É—ā—Ć –Ĺ–Ķ –∑–į–ļ—Ä–ł—á–į–Ľ–į —ā—č. ‚ÄĒ –Ę—č –∂–Ķ —Ā–ĺ–≤—Ā–Ķ–ľ —Ā—É—Ö–ĺ–Ļ! –ď–ī–Ķ —ā—č –Ī—č–Ľ –≤–ĺ –≤—Ä–Ķ–ľ—Ź –ī–ĺ–∂–ī—Ź?
–≠—ā–ĺ –Ľ–Ķ—Ā, –Ī—č—Ā—ā—Ä–ĺ-–Ī—č—Ā—ā—Ä–ĺ –Ņ–ĺ–ī—É–ľ–į–Ľ —Ź. –≠—ā–ĺ –Ķ–≥–ĺ —ą—ā—É—á–ļ–ł. –ź —Ā–ĺ–Ī–į–ļ–į —É—á—É—Ź–Ľ–į –∑–į–Ņ–į—Ö–ł –Ľ–Ķ—ą–Ķ–≥–ĺ. –≠—ā–ĺ –Ľ–Ķ—Ā –Ĺ–Ķ –ĺ—Ā—ā–į–≤–Ľ—Ź–Ķ—ā –ľ–Ķ–Ĺ—Ź.
‚ÄĒ –≠—ā–ĺ –Ľ–Ķ—Ā, ‚ÄĒ —Ā–ļ–į–∑–į–Ľ —Ź. ‚ÄĒ –Ě–ĺ —Ź –Ľ—é–Ī–Ľ—é —ā–Ķ–Ī—Ź.
–ü–ĺ–ļ–į–∑–į–Ľ–ĺ—Ā—Ć –Ľ–ł –ľ–Ĺ–Ķ, —á—ā–ĺ —Ā–Ľ–ĺ–≤–į –ľ–ĺ–ł –Ņ—Ä–ĺ–∑–≤—É—á–į–Ľ–ł –ļ–į–ļ –Ņ—Ä–ł–∑–Ĺ–į–Ĺ–ł–Ķ –≤ —Ā–ľ–Ķ—Ä—ā–Ĺ–ĺ–ľ –≥—Ä–Ķ—Ö–Ķ...
–Ę—č –ĺ—ā–≤–Ķ—Ä–Ĺ—É–Ľ–į—Ā—Ć –ĺ—ā –ľ–Ķ–Ĺ—Ź –ł –Ņ–ĺ—ą–Ľ–į –Ņ–ĺ —ā—Ä–į–≤–į–ľ. –ü–Ķ—Ā –Ī–Ķ–∂–į–Ľ —Ä—Ź–ī–ĺ–ľ, —Ä–į–ī—É—Ź—Ā—Ć —Ö–≤–ĺ—Ā—ā–ĺ–ľ —ā–≤–ĺ–Ķ–ľ—É –Ĺ–Ķ–∂–ī–į–Ĺ–Ĺ–ĺ–ľ—É —Ā–Ņ–į—Ā–Ķ–Ĺ–ł—é. –ź —Ź –≤–ł–ī–Ķ–Ľ –Ņ–ĺ —Ā–Ņ–ł–Ĺ–Ķ —ā–≤–ĺ–Ķ–Ļ, –ĺ–Ī–Ľ–Ķ–Ņ–Ľ–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ–Ļ –ľ–ĺ–ļ—Ä—č–ľ –Ņ–Ľ–į—ā—Ć–Ķ–ľ, –ļ–į–ļ —Ā—ā—Ä–į—ą–Ĺ–ĺ —ā–Ķ–Ī–Ķ –Ī—č–Ľ–ĺ –≤–ĺ –≤—Ä–Ķ–ľ—Ź –≥—Ä–ĺ–∑—č, —Ö–ĺ—ā—Ć —ā—č –ł –Ī—č–Ľ–į –Ĺ–Ķ –ĺ–ī–Ĺ–į, –Ĺ–ĺ —Ā —á—É–∂–ł–ľ–ł —ā–Ķ–Ī–Ķ, –ł –ļ–į–ļ —ā—č —ā—Ä–Ķ–≤–ĺ–∂–ł–Ľ–į—Ā—Ć –∑–į –ľ–Ķ–Ĺ—Ź...
–ė –Ķ—Č–Ķ —Ź –≤–ł–ī–Ķ–Ľ, –Ĺ–ĺ –ī–į–Ľ–Ķ–ļ–ĺ –≤–Ņ–Ķ—Ä–Ķ–ī–ł, —á—ā–ĺ, –Ĺ–į–≤–Ķ—Ä–Ĺ–ĺ–Ķ, –ľ–Ĺ–Ķ —É–ī–į—Ā—ā—Ā—Ź –Ĺ–į–Ļ—ā–ł —Ā–Ľ–ĺ–≤–į –ī–Ľ—Ź —ā–Ķ–Ī—Ź –ł —É—Ā–Ņ–ĺ–ļ–ĺ–ł—ā—Ć. –í–Ķ–ī—Ć —Ź —á–ł—ā–į–Ľ –Ĺ–Ķ —ā–ĺ–Ľ—Ć–ļ–ĺ —É–ľ–Ĺ—č–Ķ –ļ–Ĺ–ł–≥–ł, –Ĺ–ĺ –ł —Ö–ĺ—Ä–ĺ—ą–ł–Ķ, –ī–ĺ–Ī—Ä—č–Ķ. –Į –Ķ—Č–Ķ –ĺ—ā–ľ–ĺ—é—Ā—Ć –≤–ĺ–Ľ—ą–Ķ–Ī–Ĺ–ĺ–Ļ —Ä–ĺ—Ā–ĺ–Ļ –ľ–į–Ĺ–∂–Ķ—ā–Ĺ–ł–ļ–į –ł –≤–Ķ—Ä–Ĺ—É—Ā—Ć –ł–∑ –Ľ–Ķ—Ā–į –Ņ—Ä–ĺ–ľ–ĺ–ļ—ą–ł–Ļ –ī–ĺ –Ĺ–ł—ā–ļ–ł, –ł –≤—Ā–Ķ –Ņ—Ä–ĺ–Ļ–ī–Ķ—ā.
–í—Ā–Ķ –≤–Ķ–ī—Ć –Ņ—Ä–ĺ—Ö–ĺ–ī–ł—ā, –ļ—Ä–ĺ–ľ–Ķ –ī–ĺ–∂–ī—Ź.