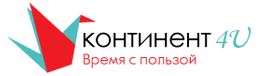–õ–ė–Ę–ē–†–ź–Ę–£–†–Ě–ź–Į –°–Ę–†–ź–Ě–ė–¶–ź

–ě—ā —Ā–ĺ—Ā—ā–į–≤–ł—ā–Ķ–Ľ—Ź:
–Ě–į—ą—É –Ľ–ł—ā–Ķ—Ä–į—ā—É—Ä–Ĺ—É—é —Ā—ā—Ä–į–Ĺ–ł—Ü—É —Ź —Ā —Ä–į–ī–ĺ—Ā—ā—Ć—é –Ņ—Ä–Ķ–ī–ĺ—Ā—ā–į–≤–Ľ—Ź—é —Ā–Ķ–≥–ĺ–ī–Ĺ—Ź –ī–≤—É–ľ —á–ł–ļ–į–≥—Ā–ļ–ł–ľ –į–≤—ā–ĺ—Ä–į–ľ —Ä–į–∑–Ĺ—č—Ö –Ņ–ĺ–ļ–ĺ–Ľ–Ķ–Ĺ–ł–Ļ ‚ÄĒ –†–ĺ–∑–Ķ –ü—Ä–ł–Ľ—É—Ü–ļ–ĺ–Ļ-–ď–Ķ—Ä—ą–Ī–Ķ—Ä–≥ –ł –ź–Ĺ–ī—Ä–Ķ—é –†–į–Ī–ĺ–ī–∑–Ķ–Ķ–Ĺ–ļ–ĺ.
¬ę–Ě–Ķ —ā—Ä–Ķ–≤–ĺ–∂–ł—ā, –Ĺ–Ķ –∑–į–ī–Ķ–≤–į–Ķ—ā, –į —ā–ĺ–Ľ—Ć–ļ–ĺ –≤—Ā–Ņ–Ľ—č–≤–į–Ķ—ā, –ļ–į–ļ –Ľ–Ķ–≥–ļ–ĺ–Ķ –ĺ–Ī–Ľ–į—á–ļ–ĺ...¬Ľ ‚ÄĒ —ā–į–ļ –Ĺ–į—á–ł–Ĺ–į–Ķ—ā –†–ĺ–∑–į –ü—Ä–ł–Ľ—É—Ü–ļ–į—Ź-–ď–Ķ—Ä—ą–Ī–Ķ—Ä–≥ —Ā–≤–ĺ–Ļ —Ä–į—Ā—Ā–ļ–į–∑ ¬ę–ö–ĺ–Ĺ—Ü–Ķ—Ä—ā¬Ľ, –≥–ĺ–≤–ĺ—Ä—Ź –ĺ –≤–ĺ—Ā–Ņ–ĺ–ľ–ł–Ĺ–į–Ĺ–ł—Ź—Ö –ī–į–Ľ–Ķ–ļ–ĺ–Ļ —é–Ĺ–ĺ—Ā—ā–ł, –Ĺ–ĺ –ł–ľ–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ —ć—ā–į –ł—Ā—ā–ĺ—Ä–ł—Ź, —ć—ā–į –ľ—É–∑—č–ļ–į –ļ–ĺ–Ĺ—Ü–Ķ—Ä—ā–į –≤ –ľ–į–Ľ–Ķ–Ĺ—Ć–ļ–ĺ–ľ —É–ļ—Ä–į–ł–Ĺ—Ā–ļ–ĺ–ľ –ľ–Ķ—Ā—ā–Ķ—á–ļ–Ķ —ā–į–ļ –∑–į–ī–Ķ–≤–į—é—ā —Ā—ā—Ä—É–Ĺ—č –≤ –ī—É—ą–Ķ –≤–ī—É–ľ—á–ł–≤–ĺ–≥–ĺ —á–ł—ā–į—ā–Ķ–Ľ—Ź, —á—ā–ĺ –ī–į–∂–Ķ –ļ–ĺ–ľ –≤ –≥–ĺ—Ä–Ľ–Ķ... –•–ĺ—ā—Ź, –ļ–ĺ–Ĺ–Ķ—á–Ĺ–ĺ, —É –ļ–į–∂–ī–ĺ–≥–ĺ –ł–∑ –Ĺ–į—Ā –ł –Ņ–ĺ–≤–ĺ–ī –ī–Ľ—Ź –≤–ĺ—Ā–Ņ–ĺ–ľ–ł–Ĺ–į–Ĺ–ł–Ļ, –ł —ā–į–ļ–ĺ–Ķ —é–Ĺ–ĺ—ą–Ķ—Ā–ļ–ĺ–Ķ –ľ–Ķ—Ā—ā–Ķ—á–ļ–ĺ, –≥–ĺ—Ä–ĺ–ī –ł–Ľ–ł –Ņ–ĺ—Ā–Ķ–Ľ–ĺ–ļ ‚ÄĒ ¬ę—ā–ĺ–Ľ—Ć–ļ–ĺ –ĺ–ī–Ĺ–ĺ ‚ÄĒ —ā–≤–ĺ–Ķ¬Ľ...
–†–ĺ–∑–į –ü—Ä–ł–Ľ—É—Ü–ļ–į—Ź-–ď–Ķ—Ä—ą–Ī–Ķ—Ä–≥ —Ä–ĺ–ī–ł–Ľ–į—Ā—Ć –Ĺ–į –£–ļ—Ä–į–ł–Ĺ–Ķ. –ü–ĺ –Ņ—Ä–ĺ—Ą–Ķ—Ā—Ā–ł–ł ‚ÄĒ –Ī–ł–Ī–Ľ–ł–ĺ—ā–Ķ–ļ–į—Ä—Ć. –†–į–Ī–ĺ—ā–į–Ľ–į –≤ —Ā–ł—Ā—ā–Ķ–ľ–Ķ –Ī–ł–Ī–Ľ–ł–ĺ—ā–Ķ–ļ –ö–ł–Ķ–≤–į. –° 1981 –≥–ĺ–ī–į –∂–ł–≤–Ķ—ā –≤ –ß–ł–ļ–į–≥–ĺ. –°—ā–ł—Ö–ł –ł –Ņ—Ä–ĺ–∑—É –Ĺ–į—á–į–Ľ–į –Ņ–ł—Ā–į—ā—Ć –≤ —ć–ľ–ł–≥—Ä–į—Ü–ł–ł. –ü—É–Ī–Ľ–ł–ļ–ĺ–≤–į–Ľ–į—Ā—Ć –≤ –≥–į–∑–Ķ—ā–į—Ö ¬ę–ú–ĺ—Ź –ź–ľ–Ķ—Ä–ł–ļ–į¬Ľ, ¬ę–†–Ķ–ļ–Ľ–į–ľ–į¬Ľ, ¬ę–®–ĺ–Ľ–ĺ–ľ¬Ľ, ¬ę–ó–Ķ–ľ–Ľ—Ź–ļ–ł¬Ľ, –į —ā–į–ļ–∂–Ķ –≤ –į–Ľ—Ć–ľ–į–Ĺ–į—Ö–į—Ö –ö–Ľ—É–Ī–į —Ä—É—Ā—Ā–ļ–ł—Ö –Ņ–ł—Ā–į—ā–Ķ–Ľ–Ķ–Ļ –Ě—Ć—é-–ô–ĺ—Ä–ļ–į. –Į–≤–Ľ—Ź–Ľ–į—Ā—Ć –į–≤—ā–ĺ—Ä–ĺ–ľ –Ņ–ĺ–Ņ—É–Ľ—Ź—Ä–Ĺ–ĺ–Ļ —Ä–į–ī–ł–ĺ–Ņ–Ķ—Ä–Ķ–ī–į—á–ł –ĺ ¬ę–õ–ł—Ä–ł–ļ –ě–Ņ–Ķ—Ä–į¬Ľ. –ź–≤—ā–ĺ—Ä –ļ–Ĺ–ł–≥–ł –Ņ–ĺ—ć–∑–ł–ł –ł –Ņ—Ä–ĺ–∑—č ¬ę–°–ĺ–Ņ—Ä–ł—á–į—Ā—ā–Ĺ–ĺ—Ā—ā—ƬĽ, –≤—č—ą–Ķ–ī—ą–Ķ–Ļ –≤ –ß–ł–ļ–į–≥–ĺ –≤ 1992 –≥–ĺ–ī—É, –ł –Ņ–ĺ–≤–Ķ—Ā—ā–ł ¬ę–ö–ĺ–Ľ—Ɨܖ嬼. –ß–Ľ–Ķ–Ĺ –ß–ł–ļ–į–≥—Ā–ļ–ĺ–Ļ –Ľ–ł—ā–Ķ—Ä–į—ā—É—Ä–Ĺ–ĺ–Ļ —Ā—ā—É–ī–ł–ł –Ņ–ĺ–ī —Ä—É–ļ–ĺ–≤–ĺ–ī—Ā—ā–≤–ĺ–ľ –Ņ–ł—Ā–į—ā–Ķ–Ľ—Ź –ē—Ą–ł–ľ–į –ß–Ķ–Ņ–ĺ–≤–Ķ—Ü–ļ–ĺ–≥–ĺ.
–ź–Ĺ–ī—Ä–Ķ–Ļ –†–į–Ī–ĺ–ī–∑–Ķ–Ķ–Ĺ–ļ–ĺ ‚ÄĒ —á–ł–ļ–į–≥—Ā–ļ–ł–Ļ —Ö—É–ī–ĺ–∂–Ĺ–ł–ļ –ł —Ā–ļ—É–Ľ—Ć–Ņ—ā–ĺ—Ä, —ā–≤–ĺ—Ä—á–Ķ—Ā—ā–≤—É –ļ–ĺ—ā–ĺ—Ä–ĺ–≥–ĺ –ľ—č –Ņ–ĺ—Ā–≤—Ź—ā–ł–Ľ–ł –≤ –ĺ–ī–Ĺ–ĺ–ľ –ł–∑ –Ĺ–ĺ–ľ–Ķ—Ä–ĺ–≤ –Ĺ–į—ą–Ķ–Ļ –≥–į–∑–Ķ—ā—č —Ā—ā–į—ā—Ć—é ¬ę–Ě–ĺ–≤–į—ā–ĺ—Ä –≤ —Ā—ā–į—Ä–ĺ–ľ —Ā—ā–ł–Ľ–Ķ¬Ľ, –Ņ–ł—ą–Ķ—ā —ā–į–ļ–∂–Ķ –≤–Ķ—Ā—Ć–ľ–į –ļ–ĺ–Ľ–ĺ—Ä–ł—ā–Ĺ—É—é –Ņ—Ä–ĺ–∑—É. –Ě–į–Ņ–ĺ–ľ–Ĺ—é —á–ł—ā–į—ā–Ķ–Ľ—Ź–ľ, —á—ā–ĺ –ź–Ĺ–ī—Ä–Ķ–Ļ —Ä–ĺ–ī–ł–Ľ—Ā—Ź –≤ –ö–ł—Ä–≥–ł–∑–ł–ł, –≤ –≥–ĺ—Ä–ĺ–ī–Ķ –§—Ä—É–Ĺ–∑–Ķ, —É—á–ł–Ľ—Ā—Ź –≤ –∑–Ĺ–į–ľ–Ķ–Ĺ–ł—ā–ĺ–Ļ ¬ę–ľ—É—Ö–Ķ¬Ľ ‚ÄĒ –õ–Ķ–Ĺ–ł–Ĺ–≥—Ä–į–ī—Ā–ļ–ĺ–ľ –í—č—Ā—ą–Ķ–ľ –•—É–ī–ĺ–∂–Ķ—Ā—ā–≤–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ-–ü—Ä–ĺ–ľ—č—ą–Ľ–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ–ľ –£—á–ł–Ľ–ł—Č–Ķ –ł–ľ. –í.–ė. –ú—É—Ö–ł–Ĺ–ĺ–Ļ, –Ņ—Ä–ł–Ķ—Ö–į–Ľ –≤ –ß–ł–ļ–į–≥–ĺ –≤ 1991, –ľ–Ĺ–ĺ–≥–ĺ –≤—č—Ā—ā–į–≤–Ľ—Ź–Ľ—Ā—Ź –Ĺ–į –į–ľ–Ķ—Ä–ł–ļ–į–Ĺ—Ā–ļ–ł—Ö –ł –ľ–Ķ–∂–ī—É–Ĺ–į—Ä–ĺ–ī–Ĺ—č—Ö –≤—č—Ā—ā–į–≤–ļ–į—Ö, –į –Ķ–≥–ĺ —É–Ľ–ł—á–Ĺ–į—Ź —Ā–ļ—É–Ľ—Ć–Ņ—ā—É—Ä–į ¬ę–ö—Ä—č–Ľ–嬼 –Ĺ–į—Ö–ĺ–ī–ł—ā—Ā—Ź —Ā–Ķ–Ļ—á–į—Ā –Ĺ–į —ć–ļ—Ā–Ņ–ĺ–∑–ł—Ü–ł–ł –≤ Skokie North Shore Sculpture Park –Ĺ–į —É–Ľ–ł—Ü–Ķ McCormick Blvd. –Ę–Ķ–Ņ–Ķ—Ä—Ć —É –Ĺ–į—Ā –Ķ—Ā—ā—Ć –≤–ĺ–∑–ľ–ĺ–∂–Ĺ–ĺ—Ā—ā—Ć –Ņ–ĺ–∑–Ĺ–į–ļ–ĺ–ľ–ł—ā—Ā—Ź –ł —Ā –ĺ–ī–Ĺ–ł–ľ –ł–∑ –Ķ–≥–ĺ —é–ľ–ĺ—Ä–ł—Ā—ā–ł—á–Ķ—Ā–ļ–ł—Ö —Ä–į—Ā—Ā–ļ–į–∑–ĺ–≤, –≤ –ļ–ĺ—ā–ĺ—Ä–ĺ–ľ —ā–ĺ–∂–Ķ ‚ÄĒ –ł —Ā–≤–ĺ–Ķ–ĺ–Ī—Ä–į–∑–Ĺ—č–Ļ –ļ–ĺ–Ĺ—Ü–Ķ—Ä—ā, –ł –≤–ĺ—Ā–Ņ–ĺ–ľ–ł–Ĺ–į–Ĺ–ł—Ź –ł–∑ —é–Ĺ–ĺ—Ā—ā–ł... –Ĺ–ĺ —ā–ĺ–Ľ—Ć–ļ–ĺ —Ā–ĺ–≤—Ā–Ķ–ľ-—Ā–ĺ–≤—Ā–Ķ–ľ –ī—Ä—É–≥–ł–Ķ.
–ė –Ķ—Č–Ķ. –ú–Ĺ–Ķ, –ļ–ĺ–Ĺ–Ķ—á–Ĺ–ĺ, –Ņ—Ä–ł—Ź—ā–Ĺ–ĺ –ī–Ķ–Ľ–ł—ā—Ā—Ź —Ā –≤–į–ľ–ł —Ā–≤–ĺ–ł–ľ–ł –Ĺ–į—Ö–ĺ–ī–ļ–į–ľ–ł, –Ĺ–ĺ –Ĺ–ł —Ź, –Ĺ–ł –Ĺ–į—ą–ł –į–≤—ā–ĺ—Ä—č –Ĺ–ł–ļ–ĺ–≥–ī–į –Ĺ–Ķ –∑–Ĺ–į—é—ā: —Ā—á–ł—ā–į–Ķ—ā–Ķ –Ľ–ł –≤—č, —á–ł—ā–į—ā–Ķ–Ľ—Ć –Ľ–ł—ā–Ķ—Ä–į—ā—É—Ä–Ĺ–ĺ–Ļ —Ā—ā—Ä–į–Ĺ–ł—Ü—č, –Ĺ–į—ą–ł –Ņ—É–Ī–Ľ–ł–ļ–į—Ü–ł–ł –Ī–Ľ–ł–∑–ļ–ł–ľ–ł –ł –ł–Ĺ—ā–Ķ—Ä–Ķ—Ā–Ĺ—č–ľ–ł –ī–Ľ—Ź —Ā–Ķ–Ī—Ź? –Ě–į–Ņ–ł—ą–ł—ā–Ķ –Ĺ–į–ľ.
–°–Ķ–ľ–Ķ–Ĺ –ö–ź–ú–ė–Ě–°–ö–ė–ô, newproza@gmail.com
–†–ĺ–∑–į –ü–†–ė–õ–£–¶–ö–ź–Į-–ď–ē–†–®–Ď–ē–†–ď
–ö–ě–Ě–¶–ē–†–Ę
–†–į—Ā—Ā–ļ–į–∑
–Ě–Ķ —ā—Ä–Ķ–≤–ĺ–∂–ł—ā, –Ĺ–Ķ –∑–į–ī–Ķ–≤–į–Ķ—ā, –į —ā–ĺ–Ľ—Ć–ļ–ĺ –≤—Ā–Ņ–Ľ—č–≤–į–Ķ—ā, –ļ–į–ļ –Ľ–Ķ–≥–ļ–ĺ–Ķ –ĺ–Ī–Ľ–į—á–ļ–ĺ. –ü–į–ľ—Ź—ā—Ć —É—Ā—ā—Ä–Ķ–ľ–Ľ—Ź–Ķ—ā—Ā—Ź –ļ –Ĺ–Ķ–ľ—É, —Ā–Ľ–Ķ–ī–ł—ā, –ļ—É–ī–į –ĺ–Ĺ–ĺ —Ā—ā–į–Ĺ–Ķ—ā —É–Ņ–Ľ—č–≤–į—ā—Ć, —É–≤–Ķ–Ľ–ł—á–ł–≤–į—ā—Ć—Ā—Ź, –į –ľ–ĺ–∂–Ķ—ā, –Ĺ–į–ĺ–Ī–ĺ—Ä–ĺ—ā, —É–ľ–Ķ–Ĺ—Ć—ą–į—ā—Ć—Ā—Ź, —ā–į—Ź—ā—Ć, –Ņ–ĺ–ļ–į –Ĺ–Ķ –ł—Ā—á–Ķ–∑–Ĺ–Ķ—ā —Ā–ĺ–≤—Ā–Ķ–ľ. –ė –≤–ī—Ä—É–≥ –ú—č—Ā–Ľ—Ć –ļ–ĺ—Ā–Ĺ–Ķ—ā—Ā—Ź –ļ—Ä–į–Ķ—ą–ļ–į —ć—ā–ĺ–≥–ĺ –ĺ–Ī–Ľ–į–ļ–į, —Ü–Ķ–Ņ–ļ–ĺ —É–ī–Ķ—Ä–∂–ł—ā –Ķ–≥–ĺ, –Ĺ–Ķ –ī–į–≤–į—Ź —É–Ļ—ā–ł. –ė –ü–į–ľ—Ź—ā—Ć –ł –ú—č—Ā–Ľ—Ć, –ĺ–Ī—ä–Ķ–ī–ł–Ĺ–ł–≤—ą–ł—Ā—Ć, –ĺ—Ā—ā–į–Ĺ–ĺ–≤—Ź—ā –ĺ–Ī–Ľ–į–ļ–ĺ –Ĺ–į –ľ–≥–Ĺ–ĺ–≤–Ķ–Ĺ—Ć–Ķ. –Ě–į–≤—Ā–Ķ–≥–ī–į.
–ź –≤ —ć—ā–ĺ–ľ ¬ę–Ĺ–į–≤—Ā–Ķ–≥–ī–į¬Ľ ‚ÄĒ —Ü–≤–Ķ—ā–ł—Ā—ā—č–Ķ —Ź—Ä–ļ–ł–Ķ –Ņ–į–Ľ–ł—Ā–į–ī–Ĺ–ł–ļ–ł, –ľ–ł–Ľ–ĺ–Ķ —Ā–Ķ—Ä–ī—Ü—É, —É—ā–ĺ–Ņ–į—é—Č–Ķ–Ķ –≤ –∑–Ķ–Ľ–Ķ–Ĺ–ł –≤—č—Ā–ĺ–ļ–ł—Ö —ā—Ä–į–≤ –ł —ā–ĺ–Ņ–ĺ–Ľ–Ķ–Ļ, –ľ–Ķ—Ā—ā–Ķ—á–ļ–ĺ –Ĺ–į –£–ļ—Ä–į–ł–Ĺ–Ķ, –ļ–į–ļ–ł—Ö –ľ–Ĺ–ĺ–≥–ĺ.
–ė —ā–ĺ–Ľ—Ć–ļ–ĺ –ĺ–ī–Ĺ–ĺ ‚ÄĒ —ā–≤–ĺ–Ķ...
–Ę—É–ľ-–Ī–į–Ľ–į, —ā—É–ľ-–Ī–į–Ľ–į,
–Ę—É–ľ-–Ī–į–Ľ–į–Ľ–į–Ļ–ļ–į!
–Ę—É–ľ...
‚ÄĒ –°–ĺ–Ĺ—Ć, —Ö–ĺ–ī—Ź—ā —Ā–Ľ—É—Ö–ł, —á—ā–ĺ —Ā–į—Ö–į—Ä–Ĺ—č–Ļ –∑–į–≤–ĺ–ī –ī–į—Ā—ā –Ī–ĺ–Ľ—Ć—ą–ĺ–Ļ –ļ–ĺ–Ĺ—Ü–Ķ—Ä—ā –≤ –Ĺ–į—ą–Ķ–ľ –ļ–Ľ—É–Ī–Ķ, ‚ÄĒ –ó–ĺ—Ä–ł–ļ-–≤—Ā–Ķ–∑–Ĺ–į–Ļ–ļ–į –Ī–ĺ–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ —É—Ö–≤–į—ā–ł–Ľ –°–ĺ–Ĺ—é –∑–į –Ľ–ĺ–ļ–ĺ—ā—Ć. ‚ÄĒ –ė –Ī—É–ī–Ķ—ā –ĺ–Ĺ ‚ÄĒ –ł–∑ —Ä—Ź–ī–į –≤–ĺ–Ĺ! –Ě–ĺ –Ņ–ĺ–Ľ–Ķ—ā—Ź—ā —á—Ć–ł-—ā–ĺ –≥–ĺ–Ľ–ĺ–≤—č. –ß–Ķ—Ā—ā–Ĺ–ĺ, —Ź –Ņ–ĺ–ī—Ā–Ľ—É—ą–į–Ľ. ‚ÄĒ –ó–ĺ—Ä–ł–ļ –Ņ–ĺ–Ĺ–ł–∑–ł–Ľ –≥–ĺ–Ľ–ĺ—Ā –ī–ĺ —ą–Ķ–Ņ–ĺ—ā–į. ‚ÄĒ –ü–į–Ņ–į —Ä–į–∑–≥–ĺ–≤–į—Ä–ł–≤–į–Ľ —Ā –ô–ĺ—Ā–Ķ–Ļ-—Ā–ļ—Ä–ł–Ņ–į—á–ĺ–ľ. –ď–ĺ–Ľ–ĺ–≤—č —ā–ĺ—á–Ĺ–ĺ –Ņ–ĺ–Ľ–Ķ—ā—Ź—ā! –Ě–ĺ –Ņ–ĺ—á–Ķ–ľ—É, —Ź –Ĺ–Ķ –Ņ–ĺ–Ĺ—Ź–Ľ..
‚ÄĒ –í–Ķ—á–Ĺ—č–Ķ —ā–≤–ĺ–ł –Ĺ–Ķ–Ī—č–Ľ–ł—Ü—č, –≤—Ā–Ķ –≤—č–ī—É–ľ—č–≤–į–Ķ—ą—Ć. –ö–į–ļ–ł–Ķ —ā–į–ľ –≥–ĺ–Ľ–ĺ–≤—č –ł–∑-–∑–į –ļ–į–ļ–ĺ–≥–ĺ-—ā–ĺ –ļ–ĺ–Ĺ—Ü–Ķ—Ä—ā–į... –ė –ļ—É–ī–į –ĺ–Ĺ–ł –Ņ–ĺ–Ľ–Ķ—ā—Ź—ā, –ó–ĺ—Ä—Ź? –ß–Ķ–Ņ—É—Ö–į –ļ–į–ļ–į—Ź-—ā–ĺ, —ā—č-—á–Ķ —É—ā—Ä–ĺ–ľ —á–Ķ–ľ-—ā–ĺ –ĺ–Ī—ä–Ķ–Ľ—Ā—Ź? ‚ÄĒ –°–ĺ–Ĺ—Ź –∑–į—ā–ĺ–Ľ–ļ–į–Ľ–į –Ņ–Ķ–Ĺ–į–Ľ –≤ –Ņ–Ķ—Ä–Ķ–Ņ–ĺ–Ľ–Ĺ–Ķ–Ĺ–Ĺ—É—é —É—á–Ķ–Ī–Ĺ–ł–ļ–į–ľ–ł –ł —ā–Ķ—ā—Ä–į–ī—Ź–ľ–ł —Ā—É–ľ–ļ—É. ‚ÄĒ –ú—č –ĺ—Ā—ā–į–Ľ–ł—Ā—Ć –≤ –ļ–Ľ–į—Ā—Ā–Ķ –Ņ–ĺ—Ā–Ľ–Ķ–ī–Ĺ–ł–ľ–ł‚Ķ –ü–ĺ—ą–Ķ–≤–Ķ–Ľ–ł–≤–į–Ļ—Ā—Ź. –ė –ĺ—ā–Ņ—É—Ā—ā–ł, –Ĺ–į–ļ–ĺ–Ĺ–Ķ—Ü, –ľ–ĺ–Ļ –Ľ–ĺ–ļ–ĺ—ā—Ć, –Ī–ĺ–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ. –ź —Ä–Ķ–Ī—Ź—ā–į —Ā–ĺ–Ī–ł—Ä–į—é—ā—Ā—Ź –≤ –∑–į–≤–ĺ–ī—Ā–ļ–ĺ–Ļ –ļ–Ľ—É–Ī –Ĺ–į —ā–į–Ĺ—Ü—č? –Į –Ņ–ĺ–Ņ—Ä–ĺ–Ī—É—é –≤—č—Ä–≤–į—ā—Ć—Ā—Ź. –ß—ā–ĺ-—ā–ĺ –ľ–į–ľ–į —Ā—ā–į–Ľ–į –Ņ–ĺ–ī–ĺ–∑—Ä–ł—ā–Ķ–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ–Ļ.
‚ÄĒ –ě—ā–ľ–Ķ–Ĺ–ł–Ľ–ł —ā–į–Ĺ—Ü—č, ‚ÄĒ –≤—Ā–Ķ —ā–į–ļ –∂–Ķ —ą–Ķ–Ņ–ĺ—ā–ĺ–ľ –ĺ—ā–≤–Ķ—ā–ł–Ľ –ó–ĺ—Ä–ł–ļ, —Ā—É–∑–ł–≤ –ī–ĺ —Č–Ķ–Ľ–ĺ—á–Ķ–ļ —Ā–≤–ĺ–ł –ł —ā–į–ļ ¬ę—Ź–Ņ–ĺ–Ĺ—Ā–ļ–ł–Ķ¬Ľ –≥–Ľ–į–∑–į.
‚ÄĒ –ě–Ņ—Ź—ā—Ć –∑–į —Ā–≤–ĺ–Ķ? ‚ÄĒ –°–ĺ–Ĺ—Ź –≤—Ā–ļ—Ä–ł–ļ–Ĺ—É–Ľ–į, –Ĺ–Ķ–ĺ–∂–ł–ī–į–Ĺ–Ĺ–ĺ —É–ī–į—Ä–ł–≤—ą–ł—Ā—Ć –ĺ –ļ–ĺ—Ā—Ź–ļ –ī–≤–Ķ—Ä–ł. ‚ÄĒ –ß–Ķ—Ä—ā, —Ā–ł–Ĺ—Ź–ļ –ľ–Ĺ–Ķ –ĺ–Ī–Ķ—Ā–Ņ–Ķ—á–Ķ–Ĺ. –≠—ā–ĺ –≤—Ā–Ķ —ā–≤–ĺ–ł ¬ę–ľ–į–Ļ—Ā—謼.
‚ÄĒ –°–ĺ–Ĺ—Ć–ļ–į, –Ņ–ĺ–ľ–ĺ–Ľ—á–ł! –í—Ā–Ķ –ī–Ķ—Ä–∂–ł—ā—Ā—Ź –≤ —Ā–Ķ–ļ—Ä–Ķ—ā–Ķ. –ö–Ľ—Ź–Ĺ—É—Ā—Ć, –≥–ĺ–≤–ĺ—Ä—é –Ņ—Ä–į–≤–ī—É. –ď–Ľ–į–≤–Ĺ—č–Ļ –ł–Ĺ–∂–Ķ–Ĺ–Ķ—Ä –∑–į–≤–ĺ–ī–į –í–ĺ—Ā–ļ–ĺ–Ī–ĺ–Ļ–Ĺ–ł–ļ —Ā–Ľ–Ķ–ī–ł—ā –∑–į –≤—Ā–Ķ–ľ–ł —Ä–Ķ–Ņ–Ķ—ā–ł—Ü–ł—Ź–ľ–ł –ĺ—Ä–ļ–Ķ—Ā—ā—Ä–į. –ź —Ä–Ķ–Ņ–Ķ—ā–ł—Ä—É—é—ā –ĺ–Ĺ–ł –ł –≤ –Ņ–Ķ—Ä–Ķ—Ä—č–≤–į—Ö, –ł –Ņ–ĺ—Ā–Ľ–Ķ —Ä–į–Ī–ĺ—ā—č, –ł –≤ –≤—č—Ö–ĺ–ī–Ĺ—č–Ķ. –Ē–į, –≤–ł–ī–Ĺ–ĺ –ļ–ĺ–Ĺ—Ü–Ķ—Ä—ā –ļ–į–ļ–ĺ–Ļ-—ā–ĺ –ĺ—Ā–ĺ–Ī–Ķ–Ĺ–Ĺ—č–Ļ. –£–≤–ł–ī–ł—ą—Ć... –Ę–į–Ĺ—Ü–Ķ–≤ –Ĺ–Ķ –Ī—É–ī–Ķ—ā, –Ĺ–ĺ –ľ—č –Ņ–ĺ–Ļ–ī–Ķ–ľ.
‚ÄĒ –°—ā—Ä–į—Ā—ā–ł-–ľ–ĺ—Ä–ī–į—Ā—ā–ł! –•–≤–į—ā–ł—ā –∑–į–Ľ–ł–≤–į—ā—Ć.
‚ÄĒ –Ě–Ķ –∑–į–Ľ–ł–≤–į—é. –í–ĺ—ā —Ö–ĺ—ā–Ķ–Ľ –Ī–į–Ī–ĺ—á–ļ—É –Ĺ–į—Ü–Ķ–Ņ–ł—ā—Ć –ī–Ľ—Ź –≤–ł–ī—É, ‚ÄĒ –∑–į—É–Ľ—č–Ī–į–Ľ—Ā—Ź –ó–ĺ—Ä–ł–ļ –Ņ—É—Ö–Ľ—č–ľ–ł, –ļ–į–ļ —É —Ä–Ķ–Ī–Ķ–Ĺ–ļ–į, –≥—É–Ī–į–ľ–ł.
‚ÄĒ –≠—ā–ĺ –ļ —ā–≤–ĺ–Ķ–Ļ –ļ–Ľ–Ķ—ā—á–į—ā–ĺ–Ļ –Ī–ĺ–Ī–ĺ—á–ļ–Ķ? –Ě—É –ł ¬ę—Ą–ļ—É—Ā¬Ľ! –ü—Ä–ł–ī–Ķ—Ä–∂–ł –Ķ–Ķ –ļ —Ā–Ľ–Ķ–ī—É—é—Č–Ķ–ľ—É –≥–ĺ–ī—É –Ĺ–į –≤—č–Ņ—É—Ā–ļ–Ĺ–ĺ–Ļ –≤–Ķ—á–Ķ—Ä, —ā–ĺ–Ľ—Ć–ļ–ĺ –Ņ—É—Ā—ā—Ć –ľ–į–ľ–į —Ā–ĺ—ą—Ć–Ķ—ā —ā–Ķ–Ī–Ķ –Ī–Ķ–Ľ—É—é —Ä—É–Ī–į—ą–ļ—É –Ņ–ĺ–ī –Ĺ–Ķ–Ķ. –Ě–Ķ–Ņ–ĺ–ī—Ä–į–∂–į–Ķ–ľ—č–ľ –Ī—É–ī–Ķ—ą—Ć. –õ–į–ī–Ĺ–ĺ, –ľ–Ĺ–Ķ –Ķ—Č–Ķ –Ĺ–į –Ņ–ĺ—á—ā—É, ‚ÄĒ –°–ĺ–Ĺ—Ź —ą–Ľ–Ķ–Ņ–Ĺ—É–Ľ–į –ó–ĺ—Ä–ł–ļ–į –Ņ–ĺ –Ķ–≥–ĺ —Ā—É—ā—É–Ľ–ĺ–Ļ —Ā–Ņ–ł–Ĺ–Ķ. ‚ÄĒ –Ě–Ķ –≥–ĺ—Ä–Ī–ł—Ā—Ć, –Ĺ–Ķ—Ā–ł —Ā–≤–ĺ—é —Ö—É–ī–ĺ–Ī—É —Ā –ī–ĺ—Ā—ā–ĺ–ł–Ĺ—Ā—ā–≤–ĺ–ľ.
–Ę—É–ľ-–Ī–į–Ľ–į, —ā—É–ľ-–Ī–į–Ľ–į,
–Ę—É–ľ-–Ī–į–Ľ–į–Ľ–į–Ļ–ļ–į!
–Ę—É–ľ...
‚ÄĒ –ú–į–ľ, —Ź –ļ–ĺ–Ĺ–≤–Ķ—Ä—ā—č –Ņ—Ä–ł–Ĺ–Ķ—Ā–Ľ–į. –í—Ā–Ķ –≥–ĺ—Ä–Ī–ł—ą—Ć –∑–į —Ā–≤–ĺ–ł–ľ —Ā—ā–į—Ä–ł—á–ļ–ĺ–ľ ¬ę–ó–ł–Ĺ–≥–Ķ—Ä–ĺ–ľ¬Ľ? –Į —ā–Ķ–Ī–Ķ –Ņ–ĺ–ľ–ĺ–≥—É –Ņ–ĺ–ī—ą–ł—ā—Ć, —á—ā–ĺ –Ĺ–į–ī–ĺ, –į —ā—č —Ā –Ņ–į–Ņ–ĺ–Ļ —Ā—Ö–ĺ–ī–ł –Ĺ–į ¬ę–ú–ĺ—Ā—ā –í–į—ā–Ķ—Ä–Ľ–ĺ–嬼, –ĺ–Ī–Ņ–Ľ–į—á–ł—ā–Ķ—Ā—Ć! –ö–ĺ–ľ—É —ć—ā–į –Ī–Ľ—É–∑–ļ–į? –Ę–ĺ–Ļ –≤—č–ī—Ä–Ķ –í–į–Ľ–Ķ–Ĺ—ā–ł–Ĺ–Ķ –ł–∑ —Ä–į–Ļ–ļ–ĺ–ľ–į? –°–Ķ—Ä—Ć–Ķ–∑–Ĺ–ĺ, –ľ–į, –Ņ–ĺ–Ļ–ī–ł—ā–Ķ –≤ –ļ–ł–Ĺ–ĺ, —ā—Ä–ĺ—Ą–Ķ–Ļ–Ĺ–į—Ź —Ä–į–ī–ĺ—Ā—ā—Ć, —Ź —ā–į–ļ –Ņ–Ľ–į–ļ–į–Ľ–į...
‚ÄĒ –ö–į–ļ –ī–Ķ–Ľ–į –≤ —ą–ļ–ĺ–Ľ–Ķ, –ľ–Ĺ–ĺ–≥–ĺ –Ņ—Ź—ā–Ķ—Ä–ĺ–ļ –Ņ—Ä–ł–Ĺ–Ķ—Ā–Ľ–į? –°–ļ–ĺ—Ä–ĺ –ĺ–Ī–Ķ–ī–į—ā—Ć –Ī—É–ī–Ķ–ľ, –ī–ĺ—Ü—Ź. –ź –ļ–ł–Ĺ–ĺ? –ü–ĺ—Ā–ľ–ĺ—ā—Ä–ł–ľ, –Ņ–į–Ņ–į —Ā–Ķ–≥–ĺ–ī–Ĺ—Ź –Ņ–ĺ–∑–ī–Ĺ–ĺ —Ā —Ä–į–Ī–ĺ—ā—č.
–°–ĺ–Ĺ—Ź –Ĺ–Ķ —Ā–Ľ—č—ą–į–Ľ–į –ļ–ĺ–Ĺ—Ü–ĺ–≤–ļ–ł. –®–≤—č—Ä–Ĺ—É–≤ —Ā—É–ľ–ļ—É –Ĺ–į —ā–ĺ–Ņ—á–į–Ĺ, –ĺ–Ĺ–į –Ņ–ĺ–ī—Ö–≤–į—ā–ł–Ľ–į –ú—É—Ä–ļ—É, –∂–ī–į–≤—ą—É—é –Ľ–į—Ā–ļ–ł –ĺ—ā —Ā–≤–ĺ–Ķ–Ļ —Ö–ĺ–∑—Ź–Ļ–ļ–ł —Ā —É—ā—Ä–į, –ł —Ā–Ķ–Ľ–į —Ā –Ĺ–Ķ–Ļ –Ĺ–į –ļ—Ä—č–Ľ—Ć—Ü–ĺ, –Ņ—Ä–ł–≥–ĺ–≤–į—Ä–ł–≤–į—Ź:
‚ÄĒ –ź—Ö, —ā—č –ľ–ĺ—Ź –ļ—Ä–į—Ā–į–≤–ł—Ü–į... –ĺ–Ņ—Ź—ā—Ć –Ī–Ķ—Ä–Ķ–ľ–Ķ–Ĺ–Ĺ–į—Ź... –ĺ—ā –ļ–ĺ—ā–į-–ļ–ĺ—ā–ĺ–≤–ł—á–į... –Ě–Ķ —Ā—ā—č–ī–Ĺ–ĺ —ā–Ķ–Ī–Ķ? –Ę—č –ľ–Ĺ–Ķ, –Ņ—É–∑–į—ā–į—Ź, –Ľ—É—á—ą–Ķ —Ā–ļ–į–∂–ł, –ļ–į–ļ —É—Ā—č–Ņ–ł—ā—Ć –ľ–į–ľ–ł–Ĺ—É –Ī–ī–ł—ā–Ķ–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ—Ā—ā—Ć –ł –Ņ–ĺ–Ņ–į—Ā—ā—Ć –Ĺ–į —ā–į–Ĺ—Ü—č? ‚ÄĒ –°–ĺ–Ĺ—Ź –ľ–Ķ—á—ā–į—ā–Ķ–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ —É–Ľ—č–Ī–Ĺ—É–Ľ–į—Ā—Ć, –Ņ—Ä–ĺ–≤–Ķ–ī—Ź –ļ–ĺ—Ā–ł—á–ļ–ĺ–Ļ –Ņ–ĺ –≤–Ľ–į–∂–Ĺ–ĺ–ľ—É –Ĺ–ĺ—Ā–ł–ļ—É –ú—É—Ä–ļ–ł. ‚ÄĒ –ė –ď–Ķ–Ĺ–ĺ—á–ļ–į —ā–į–ľ –Ī—É–ī–Ķ—ā, –Ĺ–į–ī–Ķ—é—Ā—Ć...
–Ę—É–ľ-–Ī–į–Ľ–į, —ā—É–ľ-–Ī–į–Ľ–į,
–Ę—É–ľ-–Ī–į–Ľ–į–Ľ–į–Ļ–ļ–į!
–Ę—É–ľ...
–Ę–į–Ĺ—Ü—č –≤ –ļ–Ľ—É–Ī–Ķ –°–į—Ö–į—Ä–Ĺ–ĺ–≥–ĺ –∑–į–≤–ĺ–ī–į –ī–Ķ–Ļ—Ā—ā–≤–ł—ā–Ķ–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ –ĺ—ā–ľ–Ķ–Ĺ–ł–Ľ–ł. ¬ę–í —Ā–≤—Ź–∑–ł —Ā...¬Ľ ‚ÄĒ –≥–Ľ–į—Ā–ł–Ľ–ĺ –ĺ–Ī—ä—Ź–≤–Ľ–Ķ–Ĺ–ł–Ķ. –ź —ā–į–ļ —Ö–ĺ—ā–Ķ–Ľ–ĺ—Ā—Ć –Ņ–ĺ–Ī—č—ā—Ć —Ā—Ä–Ķ–ī–ł ¬ę–≤–∑—Ä–ĺ—Ā–Ľ–ĺ–Ļ¬Ľ –ľ–ĺ–Ľ–ĺ–ī–Ķ–∂–ł, –Ĺ–į –ļ–ĺ—ā–ĺ—Ä—É—é –Ĺ–Ķ —Ä–į—Ā–Ņ—Ä–ĺ—Ā—ā—Ä–į–Ĺ—Ź–Ľ–ł—Ā—Ć –∑–į–Ņ—Ä–Ķ—ā—č, —ā–ł–Ņ–į ¬ę–Ĺ–Ķ –ļ—É—Ä–ł—ā—ƬĽ. –Ě–Ķ–ī–ĺ—Ä–ĺ—Ā–Ľ–ł-–ľ–į–Ľ—Ć—á–ł–ļ–ł –≤ —ą–ļ–ĺ–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ–ľ —ā—É–į–Ľ–Ķ—ā–Ķ –Ņ–Ķ—Ä–Ķ–ī–į–≤–į–Ľ–ł –Ņ–į–Ņ–ł—Ä–ĺ—Ā–ļ—É –ī—Ä—É–≥ –ī—Ä—É–≥—É ‚ÄĒ ¬ę–Ņ–ĺ—ā—Ź–Ĺ—É—ā—ƬĽ. –Ē–Ķ–≤–ĺ—á–ļ–ł –Ĺ–į —ā–į–Ĺ—Ü–į—Ö –ľ–ĺ–≥–Ľ–ł –Ņ–ĺ—Ź–≤–ł—ā—Ć—Ā—Ź –Ī–Ķ–∑ –≤—Ā—Ź–ļ–ł—Ö —ā–į–ľ –ļ–ĺ—Ā–ł—á–Ķ–ļ, –Ņ—Ä–Ķ–ī–≤–į—Ä–ł—ā–Ķ–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ —Ä–į—Ā–Ņ—É—Ā—ā–ł–≤ –≤–ĺ–Ľ–ĺ—Ā—č. –ė ¬ę–ļ–į–∑–į–Ľ–ł—Ā—ƬĽ –≤–Ņ–ĺ–Ľ–Ĺ–Ķ ...
–Ē–į–∂–Ķ –≤ –ľ–Ķ—Ā—ā–Ķ—á–ļ–Ķ —Ä–ĺ–ī–ł—ā–Ķ–Ľ–ł –Ĺ–Ķ –ľ–ĺ–≥—É—ā –∑–į –≤—Ā–Ķ–ľ —É—Ā–Ľ–Ķ–ī–ł—ā—Ć. –í–ĺ—ā –Ę–į–ľ–į—Ä–į –ď–Ľ–ĺ–Ī–į –ł–∑ 8-–≥–ĺ ¬ę–ϬĽ —Ä–ĺ–ī–ł–Ľ–į –ľ–į–Ľ—Ć—á–ł–ļ–į, –Ě–ł–Ĺ–į –ö–ĺ—ā–ĺ–≤–Ķ–Ĺ–ļ–ĺ –ł–∑ 9-–≥–ĺ –Ī–Ķ—Ä–Ķ–ľ–Ķ–Ĺ–Ĺ–į, –≤–ĺ—ā-–≤–ĺ—ā —Ä–ĺ–ī–ł—ā. –†–į—Ā–Ņ—Ä–ĺ—Č–į–Ľ–ł—Ā—Ć —Ā–ĺ —ą–ļ–ĺ–Ľ–ĺ–Ļ. –ź –ļ—ā–ĺ –ł—Ö –Ī—É–ī–Ķ—ā —ā–į–ľ –ī–Ķ—Ä–∂–į—ā—Ć?
–Ě–Ķ –Ī—č–Ľ–ĺ —ā–į–ļ–ĺ–≥–ĺ —Ā–Ľ—É—á–į—Ź —Ā –Ķ–≤—Ä–Ķ–Ļ—Ā–ļ–ł–ľ–ł –ī–Ķ–≤–ĺ—á–ļ–į–ľ–ł. –Ē–į–∂–Ķ –Ņ—Ä–Ķ–ī—Ā—ā–į–≤–ł—ā—Ć —Ā—ā—Ä–į—ą–Ĺ–ĺ.
...–°–ĺ–Ĺ—Ź –Ņ–ĺ–ī—Ö–ĺ–ī–ł—ā –ļ –ī–≤–Ķ—Ä—Ź–ľ –ļ–Ľ—É–Ī–į —Ā –õ–ł–∑–ĺ–Ļ. –ü–ĺ–ī—Ä—É–∂–ļ–ĺ–Ļ. –†—É—Ā—č–Ķ –≤–ĺ–Ľ–ĺ—Ā—č –°–ĺ–Ĺ–ł –Ņ—Ä–Ķ–≤—Ä–į—ā–ł–Ľ–ł—Ā—Ć –≤ –≤–ĺ–Ľ–Ĺ–ł—Ā—ā—č–Ļ –≤–ĺ–ī–ĺ–Ņ–į–ī, —Ā–Ņ–į–ī–į—é—Č–ł–Ļ –Ĺ–į –Ķ–Ķ –ĺ–ļ—Ä—É–≥–Ľ—č–Ķ –Ņ–Ľ–Ķ—á–ł–ļ–ł. –ó–į–≤–ł–ī–Ķ–≤ –ď–Ķ–Ĺ—É, –ĺ–Ĺ–į —Ā—Ä–į–∑—É —Ä–į—Ā–Ņ—Ä—Ź–ľ–ł–Ľ–į—Ā—Ć, —Ā–Ľ–Ķ–≥–ļ–į –∑–į–Ņ—Ä–ĺ–ļ–ł–Ĺ—É–≤ –≥–ĺ–Ľ–ĺ–≤—É. –ó–Ķ–Ľ–Ķ–Ĺ—č–Ķ, –Ņ–ĺ–ī –≥—É—Ā—ā—č–ľ–ł –ī–Ľ–ł–Ĺ–Ĺ—č–ľ–ł —Ä–Ķ—Ā–Ĺ–ł—Ü–į–ľ–ł –≥–Ľ–į–∑–į –∑–į–ł—Ā–ļ—Ä–ł–Ľ–ł—Ā—Ć.
‚ÄĒ –ě—ā–ľ–Ķ–Ĺ–ł–Ľ–ł... –ė–Ĺ–ĺ–≥–ī–į —ā—č –ł –≤–Ņ—Ä–į–≤–ī—É –Ĺ–Ķ –≤—č–ī—É–ľ—č–≤–į–Ķ—ą—Ć, –ó–ĺ—Ä—Ć–ļ–į. –Ě–Ķ—É–∂–Ķ–Ľ–ł ¬ę–≥—Ä—Ź–Ĺ–Ķ—ā –Ī—É—Ä—Ź¬Ľ –ł–∑-–∑–į —ć—ā–ĺ–≥–ĺ ¬ę—ā–į–Ļ–Ĺ–ĺ–≥–嬼 –ļ–ĺ–Ĺ—Ü–Ķ—Ä—ā–į? –ė –ļ–ĺ–≥–ī–į? –ď–Ķ–Ĺ–į, –į —á—ā–ĺ —ā—č –∑–Ĺ–į–Ķ—ą—Ć –ĺ —ā–į–Ļ–Ĺ–Ķ ¬ę–∑–į —Ā–Ķ–ľ—Ć—é –∑–į–ľ–ļ–į–ľ–ł¬Ľ?
–Ę—É–ľ-–Ī–į–Ľ–į, —ā—É–ľ-–Ī–į–Ľ–į,
–Ę—É–ľ-–Ī–į–Ľ–į–Ľ–į–Ļ–ļ–į!
–Ę—É–ľ...
–ô–ĺ—Ā—Ź-—Ā–ļ—Ä–ł–Ņ–į—á –≤–Ķ—Ä—ā–Ķ–Ľ—Ā—Ź –≤ –Ņ–ĺ—Ā—ā–Ķ–Ľ–ł, –ļ–į–ļ –Ĺ–į —É–≥–Ľ—Ź—Ö. –ě–Ĺ —Ā—ā–į—Ä–į–Ľ—Ā—Ź –≤–∑–ī—č—Ö–į—ā—Ć —ā–ł—Ö–ĺ, –Ī–ĺ—Ź—Ā—Ć —Ä–į–∑–Ī—É–ī–ł—ā—Ć —Ā–≤–ĺ—é —Ā–≤–į—Ä–Ľ–ł–≤—É—é –∂–Ķ–Ĺ—É –Ď–į—Ā—é. –ź –Ķ–Ļ —Ö–≤–į—ā–į–Ľ–ĺ –Ņ—Ä–ł—á–ł–Ĺ –ł–∑-–∑–į —á–Ķ–≥–ĺ –Ī—č—ā—Ć —Ā–≤–į—Ä–Ľ–ł–≤–ĺ–Ļ. –ß–į—Ā—ā–Ķ–Ĺ—Ć–ļ–ĺ –Ď–į—Ā—Ź –Ī—É—ą–Ķ–≤–į–Ľ–į:
‚ÄĒ –Ę–Ķ–Ī–Ķ —á—ā–ĺ, –Ī–ĺ–Ľ—Ć—ą–Ķ –≤—Ā–Ķ—Ö –Ĺ–į–ī–ĺ? –ě—ā—Ä–į–Ī–ĺ—ā–į–Ľ ‚ÄĒ –ł–ī–ł –ī–ĺ–ľ–ĺ–Ļ, –ľ–Ĺ–Ķ –Ņ–ĺ–ľ–ĺ—Č—Ć –Ĺ—É–∂–Ĺ–į. –Ě–į—Ā—ā—Ä—É–≥–į–Ľ –ī–Ķ—ā–Ķ–Ļ ‚ÄĒ –ļ–ĺ—Ä–ľ–ł, –Ņ–ĺ–ł, —Ä–į–∑–≤–Ľ–Ķ–ļ–į–Ļ –ł—Ö. –Ę–į–ļ –Ĺ–Ķ—ā, —Ä–į–∑–≤–Ľ–Ķ–ļ–į–Ķ—ą—Ć—Ā—Ź —Ā–į–ľ. –Ě–į—É—á–ł —Ö–ĺ—ā—Ź –Ī—č –Ď–ĺ—Ä—é –ł –Ě—é–ľ—É –ł–≥—Ä–į—ā—Ć –Ĺ–į —Ā–≤–ĺ–Ķ–Ļ —Ā–ļ—Ä–ł–Ņ–ļ–Ķ. –õ—É—á—ą–Ķ –Ī—č —ā—č –Ĺ–Ķ —É–ľ–Ķ–Ľ –Ĺ–į –Ĺ–Ķ–Ļ –ł–≥—Ä–į—ā—Ć! –Ě–ĺ –ĺ–Ĺ —Ö–ĺ—á–Ķ—ā –Ī—č—ā—Ć –∑–Ĺ–į–ľ–Ķ–Ĺ–ł—ā—č–ľ –Ĺ–į –≤—Ā–Ķ –ľ–Ķ—Ā—ā–Ķ—á–ļ–ĺ! –†—É–ļ–ĺ–≤–ĺ–ī–ł—ā–Ķ–Ľ—Ć... –ė–≥—Ä–į–Ķ—ą—Ć –ī–Ľ—Ź –Ĺ–ł—Ö —ā–į–ľ.
–ź –≤ –Ņ–ĺ—Ā–Ľ–Ķ–ī–Ĺ–Ķ–Ķ –≤—Ä–Ķ–ľ—Ź –Ď–į—Ā—Ź —Ā–ĺ–≤—Ā–Ķ–ľ —Ä–į–∑–ĺ—ą–Ľ–į—Ā—Ć:
‚ÄĒ –ė –í–ĺ—Ā–ļ–ĺ–Ī–ĺ–Ļ–Ĺ–ł–ļ —ā—É–ī–į –∂–Ķ! –ß–Ķ–≥–ĺ –Ķ–ľ—É –Ĺ–Ķ —Ö–≤–į—ā–į–Ķ—ā? –Ē–ĺ–ł–≥—Ä–į–Ķ—ā–Ķ—Ā—Ć, –Ņ–ĺ–Ņ–ĺ–ľ–Ĺ–ł –ľ–ĺ–ł —Ā–Ľ–ĺ–≤–į. –Ę–į–ļ–ĺ–Ķ –∑–į–ī—É–ľ–į—ā—Ć –≤ –Ĺ–į—ą–Ķ –≤—Ä–Ķ–ľ—Ź! –ě–Ĺ, –Ĺ–į–≤–Ķ—Ä–Ĺ–ĺ, –∑–į–Ī—č–Ľ, —á—ā–ĺ —ā—č –Ķ–≤—Ä–Ķ–Ļ?
–Ď–į—Ā—Ź –≤–ĺ–ĺ–Ī—Č–Ķ-—ā–ĺ –≥–ĺ—Ä–ī–ł–Ľ–į—Ā—Ć —Ā–≤–ĺ–ł–ľ –ô–ĺ—Ā–Ķ–Ľ–Ķ. –•–ĺ—Ä–ĺ—ą–ł–Ļ —Ä–į–Ī–ĺ—ā–Ĺ–ł–ļ, –∑–į—Ä–į–Ī–į—ā—č–≤–į–Ķ—ā, –ł –Ĺ–Ķ–ľ–Ĺ–ĺ–∂–ļ–ĺ –Ĺ–į —Ā—ā–ĺ—Ä–ĺ–Ĺ–Ķ, –ļ–ĺ–≥–ī–į –Ņ—Ä–ĺ—Ā—Ź—ā –Ņ–ĺ–ł–≥—Ä–į—ā—Ć –Ĺ–į —Ā–≤–į–ī—Ć–Ī–į—Ö, –ł–Ĺ–ĺ–≥–ī–į –Ĺ–į –Ņ–ĺ—Ö–ĺ—Ä–ĺ–Ĺ–į—Ö. –Ě–ĺ —ć—ā–ł —Ä–Ķ–Ņ–Ķ—ā–ł—Ü–ł–ł –≤ –Ņ–ĺ—Ā–Ľ–Ķ–ī–Ĺ–Ķ–Ķ –≤—Ä–Ķ–ľ—Ź! –° –Ĺ–Ķ–≥–ĺ —É–∂–Ķ —ą—ā–į–Ĺ—č –Ņ–į–ī–į—é—ā, –ł —ā–į–ļ —Ö—É–ī–ĺ–Ļ, –ī–į—ā—Ć –Ī—č –Ķ–ľ—É —Ā–≤–ĺ–Ķ, –ł –ī–Ķ—ā–Ķ–Ļ –ľ–į–Ľ–ĺ –≤–ł–ī–ł—ā. –ď–ĺ–≤–ĺ—Ä–ł—ā, —Ā–ļ–ĺ—Ä–ĺ —ć—ā–ĺ –ļ–ĺ–Ĺ—á–ł—ā—Ā—Ź. –Į –Ī—č—Ā—ā—Ä–Ķ–Ķ –ļ–ĺ–Ĺ—á—É—Ā—Ć. –ė —á–Ķ–ľ —ć—ā–ĺ –ļ–ĺ–Ĺ—á–ł—ā—Ā—Ź? –ß–Ķ–ľ —ć—ā–ĺ –ľ–ĺ–∂–Ķ—ā –ļ–ĺ–Ĺ—á–ł—ā—Ć—Ā—Ź, —Ā–ļ–į–∂–ł—ā–Ķ, –Ľ—é–ī–ł –ī–ĺ–Ī—Ä—č–Ķ? –ü—É—Ā—ā—Ć –Ĺ–į —É–Ľ–ł—Ü–Ķ –Ņ—Ź—ā—Ć–ī–Ķ—Ā—Ź—ā —á–Ķ—ā–≤–Ķ—Ä—ā—č–Ļ –≥–ĺ–ī, –Ĺ–ĺ –ľ—č –∂–Ķ –Ĺ–į—É—á–Ķ–Ĺ—č —ć—ā–ł–ľ–ł ¬ę–≥–į–∑–Ľ—É–Ĺ—č–ľ¬Ľ. –ź –ô–ĺ—Ā–Ľ —ā–į–ļ–ĺ–Ļ –Ī–Ķ–∑–∑–į—Č–ł—ā–Ĺ—č–Ļ. –≠—ā–ĺ –Ņ–Ķ—Ä–Ķ–ī–ĺ –ľ–Ĺ–ĺ–Ļ –ĺ–Ĺ —Ö–ĺ—Ä–ĺ—Ö–ĺ—Ä–ł—ā—Ā—Ź. –Ē—É–ľ–į–Ķ—ā, —Ź –Ĺ–Ķ —Ā–Ľ—č—ą—É –Ķ–≥–ĺ –≤–∑–ī–ĺ—Ö–ł, –Ņ–Ķ—Ä–Ķ–∂–ł–≤–į–Ķ—ā. –ė —É –ľ–Ķ–Ĺ—Ź –Ĺ–į –ī—É—ą–Ķ –Ĺ–Ķ –ĺ—á–Ķ–Ĺ—Ć —Ā–Ņ–ĺ–ļ–ĺ–Ļ–Ĺ–ĺ. –Ē–į–Ļ –Ď–ĺ–≥, —á—ā–ĺ–Ī—č –≤—Ā–Ķ —Ö–ĺ—Ä–ĺ—ą–ĺ –Ī—č–Ľ–ĺ...
–ź –ô–ĺ—Ā—Ź –Ņ—Ä–ĺ–ļ—Ä—É—á–ł–≤–į–Ľ –≤ —É–ľ–Ķ –ļ–į–∂–ī—É—é –ľ–Ķ–Ľ–ĺ–ī–ł—é, –∑–≤—É—á–į–Ĺ–ł–Ķ, –ł–Ĺ—ā–ĺ–Ĺ–į—Ü–ł—é, —ā–Ķ–ľ–Ņ, —Ä—É–≥–į–Ľ –∑–į –ļ–į–∂–ī—É—é –ĺ—ą–ł–Ī–ļ—É, –Ņ—É—Ā—ā—Ć –ł –Ĺ–Ķ –ĺ—á–Ķ–Ĺ—Ć –∑–į–ľ–Ķ—ā–Ĺ—É—é. –Ě–ĺ —ć—ā–ĺ, –ļ–ĺ–≥–ī–į –ĺ–Ĺ –≤–ĺ—Ä–ĺ—á–į–Ľ—Ā—Ź —Ā –Ī–ĺ–ļ—É –Ĺ–į –Ī–ĺ–ļ. –ź —ā–į–ľ, –Ņ–Ķ—Ä–Ķ–ī –ĺ—Ä–ļ–Ķ—Ā—ā—Ä–į–Ĺ—ā–į–ľ–ł, —Ā—ā–į–Ĺ–ĺ–≤–ł–Ľ—Ā—Ź –ļ–į–ļ –Ī—č –≤—č—ą–Ķ, –∑–į–ļ—Ä—č–≤–į–Ľ –≥–Ľ–į–∑–į, –∑–į–Ĺ–ĺ—Ā–ł–Ľ —Ā–ľ—č—á–ĺ–ļ –≤–≤–Ķ—Ä—Ö –ł –Ņ—Ä–ĺ—ā—Ź–∂–Ĺ–ĺ –Ņ—Ä–ĺ–ł–∑–Ĺ–ĺ—Ā–ł–Ľ ¬ę–ł-–ł-–ł...¬Ľ, –∑–į—ā–Ķ–ľ —Ā–ľ—č—á–ĺ–ļ –≤–Ĺ–ł–∑. –≠—ā–ĺ –ĺ–∑–Ĺ–į—á–į–Ľ–ĺ: –Ĺ–į—á–ł–Ĺ–į–Ķ–ľ –≤—Ā–Ķ —Ā–Ĺ–į—á–į–Ľ–į... –ź –ļ–į–ļ-—ā–ĺ –ĺ—ā –Ĺ–Ķ–ī–ĺ—Ā—č–Ņ—É –ł –ī–ĺ–Ľ–≥–ĺ–≥–ĺ —Ä–į–Ī–ĺ—á–Ķ–≥–ĺ –ī–Ĺ—Ź –∑–į–Ĺ–Ķ—Ā —Ā–ľ—č—á–ĺ–ļ –ļ–≤–Ķ—Ä—Ö—É –ł –∑–į—Ā—ā—č–Ľ, –≤–∑–ī—Ä–Ķ–ľ–Ĺ—É–≤ –Ĺ–į —Ā–Ķ–ļ—É–Ĺ–ī—É, –ł –Ņ—Ä–ĺ—Ā–Ĺ—É–Ľ—Ā—Ź –ĺ—ā –ĺ–≥–Ľ—É—ą–ł—ā–Ķ–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ–≥–ĺ ¬ę–ł-–ł-–ł...¬Ľ –ł —Ā–ľ–Ķ—Ö–į –≤—Ā–Ķ–≥–ĺ ¬ę—ā–≤–ĺ—Ä—á–Ķ—Ā–ļ–ĺ–≥–ĺ –ļ–ĺ–Ľ–Ľ–Ķ–ļ—ā–ł–≤–į¬Ľ. –ź —ā–į–ľ –Ī—č–Ľ–ł –ľ–ĺ–Ľ–ĺ–ī—č–Ķ –ł –Ņ–ĺ–∂–ł–Ľ—č–Ķ —Ä–į–Ī–ĺ—á–ł–Ķ —Ā–ĺ –≤—Ā–Ķ—Ö —Ü–Ķ—Ö–ĺ–≤ —Ā–į—Ö–į—Ä–Ĺ–ĺ–≥–ĺ –∑–į–≤–ĺ–ī–į.
‚ÄĒ –Ď–į—Ā–Ķ–Ľ–Ķ-–ľ–į–ľ–Ķ–Ľ–Ķ, –∑–į–ļ–į—ā–ł–ľ –ľ—č –Ĺ–į—ą –ļ–ĺ–Ĺ—Ü–Ķ—Ä—ā –Ĺ–į –≤—Ā—é –ł–≤–į–Ĺ–ĺ–≤—Ā–ļ—É—é, –ł —ā–ĺ–≥–ī–į —Ź ... –Ņ–Ķ—Ä–≤–ĺ–Ķ ‚ÄĒ –Ņ–ĺ–Ņ—Ä–į–≤–Ľ—é—Ā—Ć, –≤—ā–ĺ—Ä–ĺ–Ķ ‚ÄĒ –Ī—É–ī—É —ā–Ķ–Ī–Ķ –Ņ–ĺ–ľ–ĺ–≥–į—ā—Ć –ł —ā—Ä–Ķ—ā—Ć–Ķ ‚ÄĒ –∑–į–Ļ–ľ—É—Ā—Ć –ī–Ķ—ā—Ć–ľ–ł, ‚ÄĒ –ĺ–Ī–Ķ—Č–į–Ľ –ô–ĺ—Ā—Ź, –∑–į–≥–ł–Ī–į—Ź –Ņ–į–Ľ—Ć—Ü—č.
‚ÄĒ –ź–∑–ĺ–Ļ, ‚ÄĒ –ĺ—ā–ļ–Ľ–ł–ļ–į–Ľ–į—Ā—Ć –∂–Ķ–Ĺ–į, –≥—Ä–Ķ–ľ—Ź –Ņ–ĺ—Ā—É–ī–ĺ–Ļ.
–°–ĺ–Ĺ—Ź –Ē—É–Ī—Ä–ĺ–≤–ł–Ĺ—Ā–ļ–į—Ź –Ī—č–Ľ–į –Ī–Ķ–∑–Ĺ–į–ī–Ķ–∂–Ĺ–ĺ –≤–Ľ—é–Ī–Ľ–Ķ–Ĺ–į. –ü—Ä–Ķ–ī–ľ–Ķ—ā –Ľ—é–Ī–≤–ł ‚ÄĒ —Ā—ā—Ä–ĺ–Ļ–Ĺ—č–Ļ, –ľ—É–∂–Ķ—Ā—ā–≤–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ–≥–ĺ —Ā–ļ–Ľ–į–ī–į, —Ā —Ā–Ķ—Ä—č–ľ–ł –≥–Ľ–į–∑–į–ľ–ł –ł –ĺ—Ä–Ľ–ł–Ĺ—č–ľ –≤–∑–Ľ–Ķ—ā–ĺ–ľ –Ī—Ä–ĺ–≤–Ķ–Ļ –ĺ—ā–Ľ–ł—á–Ĺ–ł–ļ –ď–Ķ–Ĺ–į. –°–ĺ–Ĺ—é –ľ—É—á–ł–Ľ–į —Ä–Ķ–≤–Ĺ–ĺ—Ā—ā—Ć. –ö –ö–Ľ–į–≤–Ķ –ł–∑ 9 ¬ę–ϬĽ. –Ě—É —á—ā–ĺ –≤ —ć—ā–ĺ–Ļ –ö–Ľ–į–≤–Ķ? –Ě—É, –ł–∑—É—á–ł–Ľ–į –Ņ–ĺ —Ā–į–ľ–ĺ—É—á–ł—ā–Ķ–Ľ—é —Ā—ā–Ķ–Ĺ–ĺ–≥—Ä–į—Ą–ł—é. –ź –°–ĺ–Ĺ—Ź, –Ņ—É—Ā—ā—Ć –ł –Ĺ–Ķ –ĺ—ā–Ľ–ł—á–Ĺ–ł—Ü–į, —Ö–ĺ—Ä–ĺ—ą–ĺ —É—á–ł—ā—Ā—Ź. –ü—Ä–Ķ–ļ—Ä–į—Ā–Ĺ–ĺ —á–ł—ā–į–Ķ—ā –Ě–Ķ–ļ—Ä–į—Ā–ĺ–≤–į –Ĺ–į —É—Ä–ĺ–ļ–į—Ö –Ľ–ł—ā–Ķ—Ä–į—ā—É—Ä—č, —Ā–ĺ—á–ł–Ĺ—Ź–Ķ—ā —Ā—ā–ł—ą–ļ–ł. –ł –≤ –≤—č–Ņ—É—Ā–ļ–Ķ —ą–ļ–ĺ–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ–Ļ —Ā—ā–Ķ–Ĺ–≥–į–∑–Ķ—ā—č —É—á–į—Ā—ā–≤—É–Ķ—ā, –ł —Ä–ł—Ā—É–Ķ—ā. –Ě–ĺ —Ä–į–ī–ł –ö–Ľ–į–≤–ļ–ł –ď–Ķ–Ĺ–į —ā–ĺ–∂–Ķ –≤—č—É—á–ł–Ľ —ć—ā—É –Ĺ–Ķ—Ā—É—Ā–≤–Ķ—ā–Ĺ—É—é —Ā—ā–Ķ–Ĺ–ĺ–≥—Ä–į—Ą–ł—é –ł –Ņ–ĺ—Ā—č–Ľ–į–Ķ—ā –Ķ–Ļ –∑–į–Ņ–ł—Ā–ĺ—á–ļ–ł, –ļ–ĺ—ā–ĺ—Ä—č–Ķ —ā–ĺ–Ľ—Ć–ļ–ĺ –ö–Ľ–į–≤–į –ł –ľ–ĺ–∂–Ķ—ā –Ņ—Ä–ĺ—á–Ķ—Ā—ā—Ć –∑–į–Ņ—Ä–ĺ—Ā—ā–ĺ. –Ě–ĺ —ā–ĺ–Ļ —ć—ā–ĺ —Ā–ĺ–≤—Ā–Ķ–ľ –Ĺ–Ķ –ł–Ĺ—ā–Ķ—Ä–Ķ—Ā–Ĺ–ĺ. –ö–Ľ–į–≤–Ķ –Ĺ—Ä–į–≤–ł—ā—Ā—Ź –°—ā–į—Ā–ł–ļ, –≥–Ķ–Ĺ–ł–Ļ –ľ–į—ā–Ķ–ľ–į—ā–ł–ļ–ł –ł —Ą–ł–∑–ł–ļ–ł. –ź —ā–ĺ–≥–ĺ –Ĺ–ł–ļ—ā–ĺ –Ĺ–Ķ –ł–Ĺ—ā–Ķ—Ä–Ķ—Ā—É–Ķ—ā ‚ÄĒ –Ĺ–ł –ö–Ľ–į–≤–į, –Ĺ–ł –ě–Ľ—Ź, –Ĺ–ł –í–Ķ—Ä–į. –ď–Ľ–į–≤–Ĺ—č–Ļ –ł–Ĺ—ā–Ķ—Ä–Ķ—Ā –°—ā–į—Ā–ł–ļ–į ‚ÄĒ —ā–ĺ—á–Ĺ—č–Ķ –Ĺ–į—É–ļ–ł –ł –Ķ—Č–Ķ —ą–į—Ö–ľ–į—ā—č. –í–ĺ—ā —ā–į–ļ–ĺ–Ļ —ā—Ä–Ķ—É–≥–ĺ–Ľ—Ć–Ĺ–ł–ļ, –≤–Ķ—Ä–Ĺ–Ķ–Ķ ‚ÄĒ –∑–į–ľ–ļ–Ĺ—É—ā—č–Ļ –ļ—Ä—É–≥.
–° –Ĺ–Ķ—Ā–ĺ—Ā—ā–ĺ—Ź–≤—ą–ł—Ö—Ā—Ź —ā–į–Ĺ—Ü–Ķ–≤ –ļ–ĺ–ľ–Ņ–į–Ĺ–ł—Ź –ĺ—ā–Ņ—Ä–į–≤–ł–Ľ–į—Ā—Ć –≤ —Ü–Ķ–Ĺ—ā—Ä, –Ņ—Ä–ĺ—ą–Ľ–į—Ā—Ć –Ņ–ĺ –≥–Ľ–į–≤–Ĺ–ĺ–Ļ —É–Ľ–ł—Ü–Ķ –ł –∑–į–≤–Ķ—Ä–Ĺ—É–Ľ–į –≤ –Ņ–į—Ä–ļ, –≥–ī–Ķ –Ĺ–Ķ—É–ī–Ķ—Ä–∂–ł–ľ–ĺ –ł –Ī—É–Ļ–Ĺ–ĺ —Ä–į—Ā—Ü–≤–Ķ–Ľ–į –Ņ–Ķ—Ä—Ā–ł–ī—Ā–ļ–į—Ź —Ā–ł—Ä–Ķ–Ĺ—Ć, –ł –Ķ–Ķ —É–ī—É—ą–į—é—Č–ł–Ļ –į—Ä–ĺ–ľ–į—ā –ļ—Ä—É–∂–ł–Ľ –≥–ĺ–Ľ–ĺ–≤—č. –°–ĺ–Ĺ—Ź –ĺ–ļ–į–∑–į–Ľ–į—Ā—Ć —Ä—Ź–ī–ĺ–ľ —Ā –ď–Ķ–Ĺ–ĺ–Ļ. –ē–Ļ —ā–į–ļ —Ö–ĺ—ā–Ķ–Ľ–ĺ—Ā—Ć –Ņ—Ä–ł–ļ–ĺ—Ā–Ĺ—É—ā—Ć—Ā—Ź –ļ –Ķ–≥–ĺ —Ä—É–ļ–Ķ, –Ĺ–ĺ –ī–Ķ–≤–ĺ—á–ļ–į, —Ā–≤–Ķ—Ä–ļ–Ĺ—É–≤ –∑–Ķ–Ľ–Ķ–Ĺ—č–ľ–ł –≥–Ľ–į–∑–į–ľ–ł, –ļ–į–ļ–ł–ľ-—ā–ĺ –ĺ—Ā–ĺ–Ī—č–ľ –≥–ĺ–Ľ–ĺ—Ā–ĺ–ľ —Ā–Ņ—Ä–ĺ—Ā–ł–Ľ–į:
‚ÄĒ –ď–Ķ–Ĺ–į, —á—ā–ĺ —ā—č –ī—É–ľ–į–Ķ—ą—Ć –ĺ –ļ–į–ļ–ĺ–ľ-—ā–ĺ –Ņ—Ä–ł–Ī–Ľ–ł–∂–į—é—Č–Ķ–ľ—Ā—Ź –ľ—É–∑—č–ļ–į–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ–ľ —Ź–≤–Ľ–Ķ–Ĺ–ł–ł –Ĺ–į –∑–į–≤–ĺ–ī–Ķ, –ļ–ĺ—ā–ĺ—Ä–ĺ–Ķ –Ņ–ĺ—ā—Ä—Ź—Ā–Ķ—ā –ľ–ł—Ä? –í—Ā–Ķ –Ĺ–ĺ–≤–ĺ—Ā—ā–ł –ł—Ā—Ö–ĺ–ī—Ź—ā –ĺ—ā –ó–ĺ—Ä–ł–ļ–į, –į —ā—č –∂–Ķ –∑–Ĺ–į–Ķ—ą—Ć –Ķ–≥–ĺ. ‚ÄĒ –°–ĺ–Ĺ—Ź –ī–Ķ–Ľ–į–Ľ–į –≤–ł–ī, —á—ā–ĺ –ď–Ķ–Ĺ–į –ī–Ľ—Ź –Ĺ–Ķ–Ķ —Ā–ĺ—É—á–Ķ–Ĺ–ł–ļ –ł –Ī–ĺ–Ľ—Ć—ą–Ķ –Ĺ–ł-—á–Ķ-–≥–ĺ. –•–ĺ—ā—Ź –≥–ĺ–Ľ–ĺ—Ā –≤—č–ī–į–≤–į–Ľ –Ķ–Ķ. –í–Ņ—Ä–ĺ—á–Ķ–ľ, –ď–Ķ–Ĺ–į –Ĺ–Ķ –∑–į–ľ–Ķ—á–į–Ľ –≤—Ā–Ķ —ć—ā–ł –Ĺ—é–į–Ĺ—Ā—č.
‚ÄĒ –Ē–į, —Ź —É–∂–Ķ —Ā–Ľ—č—ą–į–Ľ —á—ā–ĺ-—ā–ĺ –ł –Ĺ–Ķ —ā–ĺ–Ľ—Ć–ļ–ĺ –ĺ—ā –ó–ĺ—Ä–ł–ļ–į. –ú–ĺ–∂–Ķ—ā, –ł–∑-–∑–į —ć—ā–ĺ–≥–ĺ —ā–į–Ĺ—Ü—č –ĺ—ā–ľ–Ķ–Ĺ–ł–Ľ–ł –Ĺ–į —Ü–Ķ–Ľ—č—Ö –ī–≤–Ķ –Ĺ–Ķ–ī–Ķ–Ľ–ł, –Ĺ–į–ī–ĺ –∂–Ķ. –Ę—č —á—ā–ĺ, –Ī—Ä–ĺ–≤–ł –Ņ–ĺ–ī–ļ—Ä–į—Ā–ł–Ľ–į? –Ě–Ķ—ā? –ě–Ĺ–ł —É —ā–Ķ–Ī—Ź –≤—Ā–Ķ–≥–ī–į —ā–į–ļ–ł–Ķ? –ö —ć–ļ–∑–į–ľ–Ķ–Ĺ–į–ľ –≥–ĺ—ā–ĺ–≤–ł—ą—Ć—Ā—Ź? ‚ÄĒ –ď–Ķ–Ĺ–į –ļ–į–ļ-—ā–ĺ –Ĺ–Ķ–Ľ–ĺ–≤–ļ–ĺ —É–Ľ—č–Ī–Ĺ—É–Ľ—Ā—Ź, —á–Ķ–ľ—É-—ā–ĺ –≤–Ĺ–Ķ–∑–į–Ņ–Ĺ–ĺ —É–ī–ł–≤–ł–Ľ—Ā—Ź, –ł —ć—ā–ĺ –Ĺ–Ķ —É—Ā–ļ–ĺ–Ľ—Ć–∑–Ĺ—É–Ľ–ĺ –ĺ—ā –Ņ—č—ā–Ľ–ł–≤–ĺ–≥–ĺ –≤–∑–≥–Ľ—Ź–ī–į –°–ĺ–Ĺ–ł.
–Ę—É–ľ-–Ī–į–Ľ–į, —ā—É–ľ-–Ī–į–Ľ–į,
–Ę—É–ľ-–Ī–į–Ľ–į–Ľ–į–Ļ–ļ–į!
–Ę—É–ľ...
–Ė–ł–∑–Ĺ—Ć —ā–Ķ–ļ–Ľ–į, –ļ–į–ļ —ā–Ķ—á–Ķ—ā —Ä–Ķ–ļ–į –°–ĺ–ľ, ‚ÄĒ —Ä–ĺ–≤–Ĺ–ĺ, —ā–ł—Ö–ĺ, –Ī–Ķ–∑ –ī–Ķ–≤—Ź—ā—č—Ö –≤–į–Ľ–ĺ–≤, –Ī–Ķ–∑ –Ņ—Ä–ł–Ľ–ł–≤–ĺ–≤ –ł –ĺ—ā–Ľ–ł–≤–ĺ–≤, –ļ–ĺ—ā–ĺ—Ä—č—Ö –≤–ĺ–ĺ–Ī—Č–Ķ –Ĺ–Ķ –Ī—č–≤–į–Ķ—ā –Ĺ–į —Ä–Ķ–ļ–Ķ, —Ä–į–∑–ľ–Ķ—Ä–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ, –≤–Ķ—Ā–Ĺ–ĺ–Ļ, –Ľ–Ķ—ā–ĺ–ľ –ł –ĺ—Ā–Ķ–Ĺ—Ć—é, –Ĺ–Ķ—Ā—Ź –Ĺ–į —Ā–Ķ–Ī–Ķ –∑–ĺ–Ľ–ĺ—ā–ĺ –ĺ–Ņ–į–ī–į—é—Č–Ķ–Ļ –Ľ–ł—Ā—ā–≤—č, –Ĺ–ĺ –ī–ĺ –ĺ—Ā–Ķ–Ĺ–ł –Ķ—Č–Ķ –ī–į–Ľ–Ķ–ļ–ĺ.
–°–į—Ö–į—Ä–Ĺ—č–Ļ –∑–į–≤–ĺ–ī –∑–į–≤–ĺ–Ķ–≤—č–≤–į–Ľ —Ā–≤–ĺ–ł –Ņ–Ķ—Ä–Ķ—Ö–ĺ–ī—Ź—Č–ł–Ķ –∑–Ĺ–į–ľ–Ķ–Ĺ–į, –Ľ—é–ī–ł –Ņ–ĺ–Ľ—É—á–į–Ľ–ł –Ņ—Ä–Ķ–ľ–ł–ł –≤ —Ā–ĺ—Ü—Ā–ĺ—Ä–Ķ–≤–Ĺ–ĺ–≤–į–Ĺ–ł—Ź—Ö, –ĺ—ā–ľ–Ķ—á–į–Ľ–ł –Ĺ–į –ī–ĺ—Ā–ļ–Ķ –Ņ–ĺ—á–Ķ—ā–į –Ņ–Ķ—Ä–Ķ–ī–ĺ–≤–ł–ļ–ĺ–≤ –Ņ—Ä–ĺ–ł–∑–≤–ĺ–ī—Ā—ā–≤–į, –ĺ—Ä–ļ–Ķ—Ā—ā—Ä —É—Ā–ł–Ľ–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ —Ä–Ķ–Ņ–Ķ—ā–ł—Ä–ĺ–≤–į–Ľ, –≥–ĺ—ā–ĺ–≤–ł–Ľ—Ā—Ź –≤ –ĺ–Ī—Ā—ā–į–Ĺ–ĺ–≤–ļ–Ķ —Ā—ā—Ä–ĺ–≥–ĺ–Ļ —Ā–Ķ–ļ—Ä–Ķ—ā–Ĺ–ĺ—Ā—ā–ł. –ź –ļ–į–ļ –ł–Ĺ–į—á–Ķ?
–í —ą–ļ–ĺ–Ľ–Ķ –ļ–ł–Ņ–Ķ–Ľ–į —Ä–į–Ī–ĺ—ā–į ‚ÄĒ –Ņ–ĺ–ī–≥–ĺ—ā–ĺ–≤–ļ–į –ļ –≤–Ķ—Ā–Ķ–Ĺ–Ĺ–ł–ľ —ć–ļ–∑–į–ľ–Ķ–Ĺ–į–ľ, –ļ–į–Ĺ–ł–ļ—É–Ľ–į–ľ, –≤—č–ī–į—á–Ķ –Ĺ–ĺ–≤—č—Ö –Ņ—É—ā–Ķ–≤–ĺ–ļ –≤ –∂–ł–∑–Ĺ—Ć. –ź –Ņ–ĺ–ļ–į –Ĺ–į –Ņ–Ķ—Ä–Ķ–ľ–Ķ–Ĺ–į—Ö –Ņ–ĺ –ļ–ĺ—Ä–ł–ī–ĺ—Ä–į–ľ –≥–ĺ–Ĺ—Ź–Ľ–ł —Ā –≤–ĺ–Ņ–Ľ—Ź–ľ–ł –ł –ļ—Ä–ł–ļ–į–ľ–ł –ľ–į–Ľ—Ź–≤–ļ–ł –ł —Ā–ī–Ķ—Ä–∂–į–Ĺ–Ĺ–ĺ —ą—É–ľ–Ķ–Ľ–ł —Ā—ā–į—Ä—ą–Ķ–ļ–Ľ–į—Ā—Ā–Ĺ–ł–ļ–ł. –í—Ā–Ķ, –ļ–į–ļ –ł –≤–ĺ –≤—Ā–Ķ—Ö —ą–ļ–ĺ–Ľ–į—Ö –ľ–ł—Ä–į.
–†–į–Ļ–ļ–ĺ–ľ—č, —Ā–Ķ–Ľ—Ć—Ā–ĺ–≤–Ķ—ā—č –ł –ľ–Ķ—Ā—ā–ļ–ĺ–ľ—č —ā–ĺ–∂–Ķ —ā—Ä—É–ī–ł–Ľ–ł—Ā—Ć –Ĺ–į –Ņ–ĺ–Ľ–Ĺ—É—é –ļ–į—ā—É—ą–ļ—É, —É–Ľ—É—á—ą–į—Ź, –ļ–į–ļ –ł–ľ –ļ–į–∑–į–Ľ–ĺ—Ā—Ć, –∂–ł–∑–Ĺ—Ć —ā—Ä—É–ī—Ź—Č–ł—Ö—Ā—Ź. –í—Ā–Ķ —ą–Ľ–ĺ —Ā–≤–ĺ–ł–ľ –Ņ–ĺ—Ä—Ź–ī–ļ–ĺ–ľ.
–ė —ā–ĺ–Ľ—Ć–ļ–ĺ –≤ –ĺ–ī–ł–Ĺ –ł–∑ –Ņ—Ä–Ķ–ļ—Ä–į—Ā–Ĺ—č—Ö –≤–Ķ—Ā–Ķ–Ĺ–Ĺ–ł—Ö –ī–Ĺ–Ķ–Ļ –ĺ–Ĺ –Ņ–ĺ–Ľ–Ķ—ā–Ķ–Ľ –≤–≤–Ķ—Ä—Ö —ā–ĺ—Ä–ľ–į—ą–ļ–į–ľ–ł. –ó–į—Ä–į–Ĺ–Ķ–Ķ –∑–į–≤–Ķ–ī–Ķ–Ĺ–Ĺ—č–Ļ –Ņ–ĺ—Ä—Ź–ī–ĺ–ļ –Ī—č–Ľ –Ĺ–į—Ä—É—ą–Ķ–Ĺ. –ß–Ķ–ľ, –ļ–į–ļ –≤—č –ī—É–ľ–į–Ķ—ā–Ķ? –ě–≥—Ä–ĺ–ľ–Ĺ–ĺ–Ļ –į—Ą–ł—ą–Ķ–Ļ –Ņ–Ķ—Ä–Ķ–ī –∑–ī–į–Ĺ–ł–Ķ–ľ –ļ–Ľ—É–Ī–į: ¬ę–ú—É–∑—č–ļ–į–Ľ—Ć–Ĺ—č–Ļ –ļ–ĺ–Ľ–Ľ–Ķ–ļ—ā–ł–≤ –°–į—Ö–į—Ä–Ĺ–ĺ–≥–ĺ –∑–į–≤–ĺ–ī–į –Ņ—Ä–Ķ–ī—Ā—ā–į–≤–Ľ—Ź–Ķ—ā –Ņ–ĺ–Ņ—É—Ä—Ä–ł –ł–∑ –Ķ–≤—Ä–Ķ–Ļ—Ā–ļ–ł—Ö –Ĺ–į—Ä–ĺ–ī–Ĺ—č—Ö –Ņ–Ķ—Ā–Ķ–Ĺ –ł –ľ–Ķ–Ľ–ĺ–ī–ł–Ļ. –ė–≥—Ä–į–Ķ—ā –Ĺ–į —Ā–ļ—Ä–ł–Ņ–ļ–Ķ –ł —Ä—É–ļ–ĺ–≤–ĺ–ī–ł—ā –ĺ—Ä–ļ–Ķ—Ā—ā—Ä–ĺ–ľ –ė–ĺ—Ā–ł—Ą –ú–ĺ–≥–ł–Ľ–Ķ–≤—Ā–ļ–ł–Ļ. –Ě–į—á–į–Ľ–ĺ –ļ–ĺ–Ĺ—Ü–Ķ—Ä—ā–į –≤ —Ā—É–Ī–Ī–ĺ—ā—É –≤ 7 —á–į—Ā–ĺ–≤ –≤–Ķ—á–Ķ—Ä–į, –≤ –≤–ĺ—Ā–ļ—Ä–Ķ—Ā–Ķ–Ĺ—Ć–Ķ ‚ÄĒ –≤ 5 —á–į—Ā–ĺ–≤. –¶–Ķ–Ĺ–į –Ī–ł–Ľ–Ķ—ā–į ‚ÄĒ...¬Ľ
–ó–į–Ľ –ļ–Ľ—É–Ī–į –Ī—č–Ľ –Ĺ–į–Ī–ł—ā –Ī–ł—ā–ļ–ĺ–ľ. –ö–ĺ–Ĺ—é—Ö ¬ę–Ī—É–ī–Ķ–Ĺ–Ĺ—č–Ļ¬Ľ, –ĺ—Ä–ī–Ķ–Ĺ–ĺ–Ĺ–ĺ—Ā–Ķ—Ü, –ĺ–ī–Ĺ–ĺ–Ĺ–ĺ–≥–ł–Ļ –®–Ľ–Ķ–ľ–į, —É—á–į—Ā—ā–Ĺ–ł–ļ –ď—Ä–į–∂–ī–į–Ĺ—Ā–ļ–ĺ–Ļ –≤–ĺ–Ļ–Ĺ—č –≤ –ī–ł–≤–ł–∑–ł–ł –Ď—É–ī–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ–≥–ĺ, –Ņ—Ä–ł–≤–Ķ–∑ –Ĺ–į –Ņ–ĺ–ī–≤–ĺ–ī–Ķ —Ā—ā–į—Ä–ł–ļ–ĺ–≤ –ł —Ā—ā–į—Ä—É—Ö, –Ĺ–Ķ —Ā—É–ľ–Ķ–≤—ą–ł—Ö –ł–ī—ā–ł –Ņ–Ķ—ą–ļ–ĺ–ľ –Ĺ–į ¬ę—ā–į–ļ–ĺ–Ļ¬Ľ –ļ–ĺ–Ĺ—Ü–Ķ—Ä—ā –≤ –ł—Ö –∂–ł–∑–Ĺ–ł. –®—É–ľ –ł –≥–į–ľ —É –≤—Ö–ĺ–ī–į –≤ –ļ–Ľ—É–Ī –ł –≤–Ĺ—É—ā—Ä–ł. –Ě–į—Ä—Ź–ī–Ĺ–į—Ź –Ņ—É–Ī–Ľ–ł–ļ–į –∑–į–Ĺ–ł–ľ–į–Ľ–į –ľ–Ķ—Ā—ā–į. –ē–≤—Ä–Ķ–ł –ľ–Ķ—Ā—ā–Ķ—á–ļ–į —á—É–≤—Ā—ā–≤–ĺ–≤–į–Ľ–ł –ĺ—Ā–ĺ–Ī—É—é —ā–ĺ—Ä–∂–Ķ—Ā—ā–≤–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ—Ā—ā—Ć –ľ–ĺ–ľ–Ķ–Ĺ—ā–į, –ł —ć—ā–ĺ –ĺ—ā—Ä–į–∂–į–Ľ–ĺ—Ā—Ć –Ĺ–į –ł—Ö –Ľ–ł—Ü–į—Ö –ł –Ņ–ĺ–≤–Ķ–ī–Ķ–Ĺ–ł–ł. –ú—É–∂—á–ł–Ĺ—č ‚ÄĒ –Ņ—Ä–ł –ĺ—Ä–ī–Ķ–Ĺ–į—Ö –ł –ľ–Ķ–ī–į–Ľ—Ź—Ö, –į –ī–Ķ—ā–ł –Ĺ–į —Ä—É–ļ–į—Ö —É —Ā–≤–ĺ–ł—Ö –ľ–į—ā–Ķ—Ä–Ķ–Ļ –Ņ—Ä–ł—ā–ł—Ö–Ľ–ł –ł –Ĺ–Ķ –Ņ–Ľ–į–ļ–į–Ľ–ł. –Ė–Ķ–Ĺ—Č–ł–Ĺ—č –Ņ–ĺ —ā–į–ļ–ĺ–ľ—É —Ā–Ľ—É—á–į—é –Ņ–ĺ–≤—Ź–∑–į–Ľ–ł –ļ—Ä–į—Ā–ł–≤—č–Ķ –Ņ–Ľ–į—ā–ļ–ł, –Ĺ–į–ī–Ķ–Ľ–ł —Ā–≤–ĺ–ł —Ā–į–ľ—č–Ķ –Ĺ–į—Ä—Ź–ī–Ĺ—č–Ķ –Ņ–Ľ–į—ā—Ć—Ź.
–ü—Ä–ĺ–∑–≤—É—á–į–Ľ –∑–≤–ĺ–Ĺ–ĺ–ļ...
–Ě–į—Ā—ā—É–Ņ–ł–Ľ–į —ā–ł—ą–ł–Ĺ–į, –ł –∑–Ķ–Ľ–Ķ–Ĺ—č–Ļ, —Ā—ą–ł—ā—č–Ļ –ł–∑ –Ņ–ĺ–Ľ–ĺ—ā–Ĺ–ł—Č –∑–į–Ĺ–į–≤–Ķ—Ā –Ĺ–į—á–į–Ľ –ľ–Ķ–ī–Ľ–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ –ĺ—ā–ļ—Ä—č–≤–į—ā—Ć—Ā—Ź. –Ě–į —Ā—Ü–Ķ–Ĺ–Ķ —Ā—ā–ĺ—Ź–Ľ–ł –Ņ–Ķ—Ä–Ķ–ī –∑—Ä–ł—ā–Ķ–Ľ—Ź–ľ–ł –ł —É–Ľ—č–Ī–į–Ľ–ł—Ā—Ć –ľ—É–∑—č–ļ–į–Ĺ—ā—č, –ī–Ķ—Ä–∂–į –≤ —Ä—É–ļ–į—Ö –ł–Ĺ—Ā—ā—Ä—É–ľ–Ķ–Ĺ—ā—č. –í –∑–į–Ľ–Ķ —Ä–į–∑–ī–į–Ľ–ł—Ā—Ć –į–Ņ–Ľ–ĺ–ī–ł—Ā–ľ–Ķ–Ĺ—ā—č. –ė–∑-–∑–į –ļ—É–Ľ–ł—Ā –≤—č—ą–Ķ–Ľ –ļ —Ā–Ķ—Ä–Ķ–ī–ł–Ĺ–Ķ —Ā—Ü–Ķ–Ĺ—č –ô–ĺ—Ā—Ź-—Ā–ļ—Ä–ł–Ņ–į—á, –∑–Ĺ–į–ľ–Ķ–Ĺ–ł—ā–ĺ—Ā—ā—Ć –ľ–Ķ—Ā—ā–Ķ—á–ļ–į, –Ķ–ī–≤–į –∂–ł–≤–ĺ–Ļ –ĺ—ā –≤–ĺ–Ľ–Ĺ–Ķ–Ĺ–ł—Ź.
–£ –Ķ–≥–ĺ –∂–Ķ–Ĺ—č –Ď–į—Ā–ł —É–∂–Ķ —ā–Ķ–ļ–Ľ–ł —Ā–Ľ–Ķ–∑—č. –ź –ô–ĺ—Ā—Ź, –ĺ—ā –ļ–ĺ—ā–ĺ—Ä–ĺ–≥–ĺ –≤—Ā–Ķ —á—ā–ĺ-—ā–ĺ –∂–ī–į–Ľ–ł, –ľ–ĺ–Ľ—á–į–Ľ. –í–ł–ī–Ĺ–ĺ, –Ņ–ĺ—ā–Ķ—Ä—Ź–Ľ –ī–į—Ä —Ä–Ķ—á–ł, –ľ–ĺ–∂–Ķ—ā –ĺ—ā—ā–ĺ–≥–ĺ, —á—ā–ĺ —É–≤–ł–ī–Ķ–Ľ —Ā–Ľ–Ķ–∑—č –Ĺ–į –≥–Ľ–į–∑–į—Ö —Ā–≤–ĺ–Ķ–Ļ –≤–ĺ—Ä—á–Ľ–ł–≤–ĺ–Ļ ¬ę–Ņ–ĺ–Ľ–ĺ–≤–ł–ŗ謼. –Ě–į–ļ–ĺ–Ĺ–Ķ—Ü, –Ņ–ĺ–Ĺ—Ź–≤, —á—ā–ĺ —Ā–ļ–į–∑–į—ā—Ć —É–∂–Ķ –Ĺ–ł—á–Ķ–≥–ĺ –Ĺ–Ķ —Ā–ľ–ĺ–∂–Ķ—ā, –ô–ĺ—Ā—Ź –Ņ–ĺ–ī–Ĺ—Ź–Ľ –ļ–≤–Ķ—Ä—Ö—É —Ā–ľ—č—á–ĺ–ļ –ł –≥–Ľ—É—Ö–ĺ –Ņ—Ä–ĺ–ľ—č—á–į–Ľ: ¬ę–ł-–ł-–ł...¬Ľ –ė –ĺ—Ä–ļ–Ķ—Ā—ā—Ä –≥—Ä—Ź–Ĺ—É–Ľ!
¬ę–§—Ä–Ķ–Ļ–Ľ–į—Ö—Ā¬Ľ, —Ā–į–ľ—č–Ļ –Ĺ–į—Ā—ā–ĺ—Ź—Č–ł–Ļ —Ą—Ä–Ķ–Ļ–Ľ–į—Ö—Ā!
–ď—Ä–ĺ–ľ –į–Ņ–Ľ–ĺ–ī–ł—Ā–ľ–Ķ–Ĺ—ā–ĺ–≤...
¬ę–í–į—Ä–Ĺ—č—á–ļ–ł—Ā¬Ľ!
–ź–Ņ–Ľ–ĺ–ī–ł—Ā–ľ–Ķ–Ĺ—ā—č...
¬ę–ė–ī–Ĺ, –ļ—É–Ļ—Ą—ā —ą—É–Ļ–Ĺ –Ņ–į–Ņ–ł—Ä–ĺ—Ā–ŬĽ!
–ź–Ņ–Ľ–ĺ–ī–ł—Ā–ľ–Ķ–Ĺ—ā—č... –ė –Ņ–ĺ—ą–Ľ–ĺ, –Ņ–ĺ—ą–Ľ–ĺ...
–Ē—É—ą–ł, –≤—č–Ľ–Ķ—ā–Ķ–≤—ą–ł–Ķ –ļ–į–ļ –Ņ—ā–ł—Ü—č –ł–∑ –ļ–Ľ–Ķ—ā–ļ–ł, –Ņ–į—Ä–ł–Ľ–ł –≤ –≤–ĺ–Ľ–Ĺ–į—Ö –ľ–Ķ–Ľ–ĺ–ī–ł–Ļ, –Ņ–Ľ–į–ļ–į–Ľ–ł –ł —Ā–ľ–Ķ—Ź–Ľ–ł—Ā—Ć. –ė –≤—Ā–Ķ —ć—ā–ĺ ¬ę—á—É–ī–嬼 —ā–≤–ĺ—Ä–ł–Ľ–į –ô–ĺ—Ā–ł–Ĺ–į —Ā–ļ—Ä–ł–Ņ–ĺ—á–ļ–į, –ļ–ĺ—ā–ĺ—Ä–į—Ź –Ĺ–Ķ —Ö–ĺ—ā–Ķ–Ľ–į –Ņ–Ķ—ā—Ć –ĺ–ī–Ĺ–į. –ė –≤–ľ–Ķ—Ā—ā–Ķ —Ā –Ĺ–Ķ–Ļ –∑–į–Ņ–Ķ–Ľ –∑–į–Ľ. –ö–į–ļ –∂–Ķ —ć—ā–ĺ –Ī—č–Ľ–ĺ —Ö–ĺ—Ä–ĺ—ą–ĺ! –Ę–į–ļ–ĺ–Ķ –Ĺ–Ķ –∑–į–Ī—É–ī–Ķ—ā –Ĺ–ł–ļ—ā–ĺ, –ļ–ĺ–ľ—É –≤—č–Ņ–į–Ľ–ĺ —ā–į–ļ–ĺ–Ķ –Ķ–≤—Ä–Ķ–Ļ—Ā–ļ–ĺ–Ķ —Ā—á–į—Ā—ā—Ć–Ķ!
–Ě–Ķ –∑–Ĺ–į—é, –ļ—ā–ĺ —Ā–Ņ–ĺ–ļ–ĺ–Ļ–Ĺ–ĺ —Ā–Ņ–į–Ľ –Ņ–ĺ—Ā–Ľ–Ķ —ā—Ä–Ķ—Ö—á–į—Ā–ĺ–≤–ĺ–≥–ĺ –ļ–ĺ–Ĺ—Ü–Ķ—Ä—ā–į. –ź –Ī—č–Ľ–ĺ –ĺ—ā —á–Ķ–≥–ĺ –Ĺ–Ķ —Ā–Ņ–į—ā—Ć. –ė –∑–į–≤—ā—Ä–į, –ļ—ā–ĺ –Ĺ–Ķ —Ā–ľ–ĺ–≥ —Ā–Ķ–≥–ĺ–ī–Ĺ—Ź ‚ÄĒ –Ī—É–ī—É—ā –Ĺ–į —ć—ā–ĺ–ľ —ā—Ä–ł—É–ľ—Ą–Ķ. –ź –ļ—ā–ĺ-—ā–ĺ –Ņ—Ä–ł–ī–Ķ—ā –ł –Ņ–ĺ –≤—ā–ĺ—Ä–ĺ–ľ—É —Ä–į–∑—É. –ē—Ā–Ľ–ł —É–ī–į—Ā—ā—Ā—Ź... –ė –Ī—É–ī—É—ā –Ķ—Č–Ķ –ī–ĺ–Ľ–≥–ĺ –≥–ĺ–≤–ĺ—Ä–ł—ā—Ć –ł –≥–ĺ–≤–ĺ—Ä–ł—ā—Ć. –ė –≤—Ā–Ņ–ĺ–ľ–ł–Ĺ–į—ā—Ć, –ļ–į–ļ–ł–Ķ –≤—Ā–Ķ –ľ–ĺ–Ľ–ĺ–ī—Ü—č, –ļ–į–ļ –ĺ–Ĺ–ł –ł–≥—Ä–į–Ľ–ł! –ß—ā–ĺ –∑–į –ļ–ĺ–Ĺ—Ü–Ķ—Ä—ā! –ź –ô–ĺ—Ā—Ź-—Ā–ļ—Ä–ł–Ņ–į—á, –ī–į–Ļ –Ķ–ľ—É –Ď–ĺ–≥ –∑–ī–ĺ—Ä–ĺ–≤—Ć—Ź! –ö—Ā—ā–į—ā–ł, —ā–į–ľ –≤ –ĺ—Ä–ļ–Ķ—Ā—ā—Ä–Ķ –Ī—č–Ľ–ĺ –Ĺ–Ķ—Ā–ļ–ĺ–Ľ—Ć–ļ–ĺ —É–ļ—Ä–į–ł–Ĺ—Ü–Ķ–≤. –ė –≤ –∑–į–Ľ–Ķ —ā–ĺ–∂–Ķ. –Ě—É —ā–į–ļ —á—ā–ĺ? –Ě–Ķ –≤—Ā–Ķ –∂–Ķ –Ľ—é–ī–ł –ĺ–ī–ł–Ĺ–į–ļ–ĺ–≤—č–Ķ.
–Ē–į, —ć—ā–ĺ –Ī—č–Ľ–ĺ –Ņ–ĺ—Ö–ĺ–∂–Ķ –Ĺ–į ¬ę–ė—Ā—Ö–ĺ–ī¬Ľ. –ė—Ā—Ö–ĺ–ī –ł–∑ –Ī—É–ī–Ĺ–ł—á–Ĺ–ĺ–Ļ –∂–ł–∑–Ĺ–ł –ľ–Ķ—Ā—ā–Ķ—á–ļ–į –≤ –°—ā—Ä–į–Ĺ—É –ě–Ī–Ķ—ā–ĺ–≤–į–Ĺ–Ĺ—É—é. –ė—Ā—Ö–ĺ–ī, –ļ–ĺ—ā–ĺ—Ä–ĺ–≥–ĺ —ā–į–ļ –∂–ī–į–Ľ–ł...
–ė ¬ę–ł—Ā—Ö–ĺ–ī¬Ľ –Ĺ–į—á–į–Ľ—Ā—Ź. –Ě–ĺ —ć—ā–ĺ –Ī—č–Ľ –ī—Ä—É–≥–ĺ–Ļ –ł—Ā—Ö–ĺ–ī. –ě–Ĺ –Ĺ–Ķ –Ī—č–Ľ –ī–ĺ–Ī—Ä–ĺ–≤–ĺ–Ľ—Ć–Ĺ—č–ľ. –í–ĺ—Ā–ļ—Ä–Ķ—Ā–Ĺ—č–Ļ –ļ–ĺ–Ĺ—Ü–Ķ—Ä—ā —É–∂–Ķ –Ĺ–Ķ —Ā–ĺ—Ā—ā–ĺ—Ź–Ľ—Ā—Ź. –ü–ĺ–Ľ–Ķ—ā–Ķ–Ľ–ł –≥–ĺ–Ľ–ĺ–≤—č...
–ü–Ķ—Ä–≤–ĺ–Ļ –ĺ–ļ–į–∑–į–Ľ–į—Ā—Ć –≥–ĺ–Ľ–ĺ–≤–į –≥–Ľ–į–≤–Ĺ–ĺ–≥–ĺ –ł–Ĺ–∂–Ķ–Ĺ–Ķ—Ä–į –Ď–ĺ—Ä–ł—Ā–į –í–ĺ—Ā–ļ–ĺ–Ī–ĺ–Ļ–Ĺ–ł–ļ–į. –ź –∑–į –Ĺ–ł–ľ –ł –ľ–Ĺ–ĺ–≥–ł–Ķ ¬ę–≤–ł–Ĺ–ĺ–≤–Ĺ—č–Ķ¬Ľ –ł –Ĺ–Ķ–≤–ł–Ĺ–ĺ–≤–Ĺ—č–Ķ, –Ņ—Ä–ł—á–į—Ā—ā–Ĺ—č–Ķ –ł –Ĺ–Ķ –ĺ—á–Ķ–Ĺ—Ć –Ņ—Ä–ł—á–į—Ā—ā–Ĺ—č–Ķ –Ķ–≤—Ä–Ķ–Ļ—Ā–ļ–ł–Ķ –≥–ĺ–Ľ–ĺ–≤—č.
–ö–ĺ–Ĺ—Ü–Ķ—Ä—ā –Ĺ–Ķ –Ņ–ĺ–≤—ā–ĺ—Ä–ł–Ľ—Ā—Ź –Ĺ–ł–ļ–ĺ–≥–ī–į, –Ĺ–ĺ –ī–į–Ľ–Ķ–ļ–ĺ–Ķ –ł –Ĺ–Ķ–∑–į–Ī—č–≤–į–Ķ–ľ–ĺ–Ķ –ĺ—Ā—ā–į–Ľ–ĺ—Ā—Ć –≤ –Ņ–į–ľ—Ź—ā–ł –ī–Ķ—ā–Ķ–Ļ, —ą–ļ–ĺ–Ľ—Ć–Ĺ–ł–ļ–ĺ–≤, —Ā–ł–ī–Ķ–≤—ą–ł—Ö –Ĺ–į –Ņ–ĺ–Ľ—É –≤–ī–ĺ–Ľ—Ć —Ā—ā–Ķ–Ĺ –ł –ľ–Ķ–∂–ī—É —Ä—Ź–ī–į–ľ–ł –ļ–Ľ—É–Ī–Ĺ–ĺ–≥–ĺ –∑–į–Ľ–į. –í –Ņ–į–ľ—Ź—ā–ł –ľ—É–∂—á–ł–Ĺ –ł –∂–Ķ–Ĺ—Č–ł–Ĺ, –≤ –Ņ–į–ľ—Ź—ā–ł –Ņ–ĺ–∂–ł–Ľ—č—Ö, —É—Ā—ā–į–≤—ą–ł—Ö –ĺ—ā –Ņ–ĺ–≥—Ä–ĺ–ľ–ĺ–≤ –ł –≤–ĺ–Ļ–Ĺ –Ī–į–Ī—É—ą–Ķ–ļ –ł –ī–Ķ–ī—É—ą–Ķ–ļ, –Ĺ–į—ą–Ķ–ī—ą–ł—Ö –Ņ–ĺ–ļ–ĺ–Ļ –≤ –∑–Ķ–ľ–Ľ–Ķ —ā–ĺ–≥–ĺ —É–ī–ł–≤–ł—ā–Ķ–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ –Ņ—Ä–Ķ–ļ—Ä–į—Ā–Ĺ–ĺ–≥–ĺ, —É—ā–ĺ–Ņ–į—é—Č–Ķ–≥–ĺ –≤ –∑–Ķ–Ľ–Ķ–Ĺ–ł –≤—č—Ā–ĺ–ļ–ł—Ö —ā—Ä–į–≤, —ā–ĺ–Ņ–ĺ–Ľ–Ķ–Ļ –ł —Ź—Ä–ļ–ł—Ö —Ü–≤–Ķ—ā–ł—Ā—ā—č—Ö –Ņ–į–Ľ–ł—Ā–į–ī–Ĺ–ł–ļ–ĺ–≤ –ľ–Ķ—Ā—ā–Ķ—á–ļ–į. –ú–Ķ—Ā—ā–Ķ—á–ļ–į –Ĺ–į –£–ļ—Ä–į–ł–Ĺ–Ķ, –ļ–į–ļ–ł—Ö –ľ–Ĺ–ĺ–≥–ĺ. –Ę–ĺ–Ľ—Ć–ļ–ĺ –ĺ–ī–Ĺ–ĺ ‚ÄĒ —ā–≤–ĺ–Ķ.
–Ę—É–ľ-–Ī–į-–Ľ–į...
_____________________
–ź–Ĺ–ī—Ä–Ķ–Ļ –†–ź–Ď–ě–Ē–ó–ē–ē–Ě–ö–ě
–ö–ź–Ě–ź–ē–Ę –ü–Ā–°...
–†–į—Ā—Ā–ļ–į–∑
¬ę–ö–į–Ĺ–į–Ķ—ā –Ņ—Ď—Ā, –Ĺ–į—Ā–į–ī–ļ—É –Ľ–Ķ–≤–ł—Ä—É—Ź,
–ď–ī–Ķ —ą–ł—Ä–ľ–į—á–ł –≤—ā—č–ļ–į—é—ā –≤–ł–Ľ—č –Ĺ–į–Ľ–Ķ–≥–ļ–Ķ.
–ě–Ĺ –ł—Ö —Ö–ĺ—ā–Ķ–Ľ –Ņ–ĺ–ļ—Ä–į–ľ–∑–į—ā—Ć, –Ĺ–ĺ –ľ–Ķ–Ĺ–∂—É–Ķ—ā,
–ě—Ö, –ļ–į–ļ –Ī—č —ą–Ĺ–ł—Ą—ā –Ĺ–Ķ –≤—č—Ä—É–Ī–ł–Ľ–ł –ľ–Ĺ–Ķ¬Ľ...
–°–Ľ—č—Ö–į–Ľ–ł —ā–į–ļ—É—é –Ņ–Ķ—Ā–Ĺ—é? –í—Ä–ĺ–ī–Ķ —Ā–Ľ–ĺ–≤–į –∑–Ĺ–į–ļ–ĺ–ľ—č–Ķ, –į –Ĺ–ł—á–Ķ–≥–ĺ –Ĺ–Ķ –Ņ–ĺ–Ĺ—Ź—ā–Ĺ–ĺ. –≠—ā–ĺ ¬ę–Ņ–ĺ —Ą–Ķ–Ĺ–ł¬Ľ, –Ĺ–į –ĺ—Ā–ĺ–Ī–ĺ–ľ —ā—é—Ä–Ķ–ľ–Ĺ–ĺ–ľ –∂–į—Ä–≥–ĺ–Ĺ–Ķ. –Į —É–∂–Ķ –Ĺ–Ķ –Ņ–ĺ–ľ–Ĺ—é, –ļ—ā–ĺ –ľ–Ķ–Ĺ—Ź —ć—ā–ĺ–Ļ –Ņ–Ķ—Ā–Ĺ–Ķ –Ĺ–į—É—á–ł–Ľ...
–ď–ł—ā–į—Ä—É —Ź –Ņ–ĺ–Ľ—É—á–ł–Ľ –≤ –Ņ–ĺ–ī–į—Ä–ĺ–ļ –ĺ—ā –ľ–į–ľ—č. –Ě–į –ī–Ķ–Ĺ—Ć —Ä–ĺ–∂–ī–Ķ–Ĺ–ł—Ź. –Į —É—á–ł–Ľ—Ā—Ź —ā–ĺ–≥–ī–į –≤ –Ņ—Ź—ā–ĺ–ľ –ļ–Ľ–į—Ā—Ā–Ķ. –•–ĺ—Ä–ĺ—ą–į—Ź –Ī—č–Ľ–į –≥–ł—ā–į—Ä–į. –®–Ķ—Ā—ā–ł—Ā—ā—Ä—É–Ĺ–Ĺ–į—Ź. –ß–Ķ—Ö–ĺ—Ā–Ľ–ĺ–≤–į—Ü–ļ–į—Ź. ¬ę–ö—Ä–Ķ–ľ–ĺ–Ĺ–į¬Ľ. –Į, –ļ–ĺ–Ĺ–Ķ—á–Ĺ–ĺ, –Ī—č–Ľ —Ä–į–ī —ā–į–ļ–ĺ–ľ—É –Ņ–ĺ–ī–į—Ä–ļ—É, —ā–į–ļ –ļ–į–ļ —É–∂–Ķ —Ā–Ľ—É—ą–į–Ľ —Ä–ĺ–ļ-–ľ—É–∑—č–ļ—É –Ĺ–į –ľ–į–≥–Ĺ–ł—ā–ĺ—Ą–ĺ–Ĺ–Ķ ¬ę–Ē–į–Ļ–Ĺ–į¬Ľ, –ĺ—Ā—ā–į–≤–Ľ–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ–ľ –ľ–Ĺ–Ķ –Ņ–ĺ –Ĺ–į—Ā–Ľ–Ķ–ī—Ā—ā–≤—É ‚ÄĒ –≤–ľ–Ķ—Ā—ā–Ķ —Ā –Ī–ĺ–Ī–ł–Ĺ–į–ľ–ł ‚ÄĒ –ľ–ĺ–ł–ľ –Ī—Ä–į—ā–ĺ–ľ, —É—ą–Ķ–ī—ą–ł–ľ –≤ –į—Ä–ľ–ł—é. –í –ľ—É–∑—č–ļ–į–Ľ—Ć–Ĺ—É—é —ą–ļ–ĺ–Ľ—É —Ź –Ĺ–Ķ —Ö–ĺ–ī–ł–Ľ, –į –Ņ—Ä–ĺ—Ā—ā–ĺ –Ņ—č—ā–į–Ľ—Ā—Ź –Ņ–ĺ–ī–Ī–ł—Ä–į—ā—Ć –ľ–Ķ–Ľ–ĺ–ī–ł–ł –Ĺ–į –ĺ–ī–Ĺ–ĺ–Ļ —Ā—ā—Ä—É–Ĺ–Ķ... –ĺ–ī–Ĺ–ł–ľ –Ņ–į–Ľ—Ć—Ü–Ķ–ľ. –ü–ĺ–Ľ—É—á–į–Ľ–ĺ—Ā—Ć –Ĺ–Ķ –ĺ—á–Ķ–Ĺ—Ć –∑–ī–ĺ—Ä–ĺ–≤–ĺ, –ł –≤—Ā–ļ–ĺ—Ä–Ķ —Ź –ĺ—ā—á–į—Ź–Ľ—Ā—Ź –ł–∑–≤–Ľ–Ķ—á—Ć –ł–∑ –ľ–ĺ–Ķ–≥–ĺ –ł–Ĺ—Ā—ā—Ä—É–ľ–Ķ–Ĺ—ā–į —á—ā–ĺ-—ā–ĺ —Ö–ĺ—ā—Ź –Ī—č –Ņ–ĺ—Ö–ĺ–∂–Ķ–Ķ –Ĺ–į —ā–ĺ, —á—ā–ĺ —Ā–Ľ—É—ą–į–Ľ –Ĺ–į –ľ–į–≥–Ĺ–ł—ā–ĺ—Ą–ĺ–Ĺ–Ķ. –Į –Ņ–Ķ—Ä–Ķ—Ā—ā–į–Ľ —ā—Ä–Ķ–Ĺ—Ć–ļ–į—ā—Ć –Ĺ–į —Ā–≤–ĺ–Ķ–Ļ –≥–ł—ā–į—Ä–Ķ, –Ņ–ĺ–Ľ–ĺ–∂–ł–Ľ –Ķ–Ķ –į–ļ–ļ—É—Ä–į—ā–Ĺ–ĺ –≤ —É–≥–ĺ–Ľ –ł —É–∂–Ķ –Ĺ–Ķ –Ņ—Ä–ł–ļ–į—Ā–į–Ľ—Ā—Ź –ļ –Ĺ–Ķ–Ļ –ī–ĺ —ā–Ķ—Ö –Ņ–ĺ—Ä, –Ņ–ĺ–ļ–į –Ĺ–Ķ –≤–Ķ—Ä–Ĺ—É–Ľ—Ā—Ź –ł–∑ –į—Ä–ľ–ł–ł –Ī—Ä–į—ā.
–ú–ĺ–Ļ –Ī—Ä–į—ā, –ļ–ĺ—ā–ĺ—Ä—č–Ļ –Ĺ–į –ī–Ķ–≤—Ź—ā—Ć –Ľ–Ķ—ā –ľ–Ķ–Ĺ—Ź —Ā—ā–į—Ä—ą–Ķ, —É–∂–Ķ –ł –ī–ĺ –į—Ä–ľ–ł–ł –∑–Ĺ–į–Ľ –ľ–Ĺ–ĺ–≥–ĺ –Ņ–Ķ—Ā–Ķ–Ĺ –ł –Ņ–Ķ–Ľ –ł—Ö –Ņ–ĺ–ī –≥–ł—ā–į—Ä—É —Ā–ĺ —Ā–≤–ĺ–ł–ľ–ł –ī—Ä—É–∑—Ć—Ź–ľ–ł. –ě–Ĺ —Ā—Ä–į–∑—É –≤–ī–ĺ—Ö–Ĺ–ĺ–≤–ł–Ľ –ľ–Ķ–Ĺ—Ź –Ĺ–į –Ĺ–ĺ–≤—č–Ķ –ľ—É–∑—č–ļ–į–Ľ—Ć–Ĺ—č–Ķ –ī–Ķ—Ä–∑–į–Ĺ–ł—Ź, –Ņ–ĺ–ļ–į–∑–į–Ľ –Ĺ–Ķ—Ā–ļ–ĺ–Ľ—Ć–ļ–ĺ ¬ę–Ī–Ľ–į—ā–Ĺ—č—Ö¬Ľ –į–ļ–ļ–ĺ—Ä–ī–ĺ–≤, –ł –Ĺ–Ķ –Ņ—Ä–ĺ—ą–Ľ–ĺ –ľ–Ĺ–ĺ–≥–ĺ –≤—Ä–Ķ–ľ–Ķ–Ĺ–ł, –ļ–į–ļ —Ź —É–∂–Ķ –Ī—Ä–Ķ–Ĺ—á–į–Ľ –Ĺ–Ķ–∑–į–ľ—č—Ā–Ľ–ĺ–≤–į—ā—č–Ķ –į–ļ–ļ–ĺ–ľ–Ņ–į–Ĺ–Ķ–ľ–Ķ–Ĺ—ā—č –ļ –Ņ–Ķ—Ā–Ĺ—Ź–ľ –ł–∑ –Ķ–≥–ĺ —ā–Ķ—ā—Ä–į–ī–ĺ–ļ ‚ÄĒ ¬ę–Ņ–Ķ—Ā–Ķ–Ĺ–Ĺ–ł–ļ–ĺ–≤¬Ľ. –Į –Ī—É–ļ–≤–į–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ –Ĺ–į –Ľ–Ķ—ā—É —Ā—Ö–≤–į—ā—č–≤–į–Ľ –Ĺ–ĺ–≤—č–Ķ –Ņ–Ķ—Ā–Ĺ–ł, –ł –≤—Ā–ļ–ĺ—Ä–Ķ –ĺ–Ī–Ľ–į–ī–į–Ľ –ī–ĺ–≤–ĺ–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ —Ā–ĺ–Ľ–ł–ī–Ĺ—č–ľ —Ä–Ķ–Ņ–Ķ—Ä—ā—É–į—Ä–ĺ–ľ –Ī–Ľ–į—ā–Ĺ—č—Ö, —Ā–ľ–Ķ—ą–Ĺ—č—Ö ‚ÄĒ –ł –Ĺ–Ķ–ļ–ĺ—ā–ĺ—Ä—č—Ö –ī–į–∂–Ķ —Ā ¬ę–Ĺ–Ķ–ī–Ķ—ā—Ā–ļ–ł–ľ¬Ľ —Ā–ľ—č—Ā–Ľ–ĺ–ľ.
–ö —ā–ĺ–ľ—É –≤—Ä–Ķ–ľ–Ķ–Ĺ–ł –ľ—č –Ņ–Ķ—Ä–Ķ–Ķ—Ö–į–Ľ–ł –ł–∑ –§—Ä—É–Ĺ–∑–Ķ –ĺ–Ī—Ä–į—ā–Ĺ–ĺ –≤ –Ę–į—ą–ļ–Ķ–Ĺ—ā, –ł –Ĺ–į –Ĺ–ĺ–≤–ĺ–ľ –ľ–Ķ—Ā—ā–Ķ —Ź —Ā—Ä–į–∑—É –∂–Ķ –∑–į–≤–ĺ–Ķ–≤–į–Ľ –Ņ–ĺ–Ņ—É–Ľ—Ź—Ä–Ĺ–ĺ—Ā—ā—Ć —Ā—Ä–Ķ–ī–ł –ľ–ĺ–ł—Ö —Ā–≤–Ķ—Ä—Ā—ā–Ĺ–ł–ļ–ĺ–≤. –ü–ĺ –≤–Ķ—á–Ķ—Ä–į–ľ —Ź —É–Ī–Ķ–≥–į–Ľ —Ā–ĺ —Ā–≤–ĺ–Ķ–Ļ ¬ę–ö—Ä–Ķ–ľ–ĺ–Ĺ–ĺ–Ļ¬Ľ –Ĺ–į —É–Ľ–ł—Ü—É, –ł –≤ –ĺ–Ī–≤–ł—ā–ĺ–Ļ –∑–Ķ–Ľ–Ķ–Ĺ—Ć—é –Ī–Ķ—Ā–Ķ–ī–ļ–Ķ –ī–Ķ—ā—Ā–ļ–ĺ–≥–ĺ —Ā–į–ī–ł–ļ–į, –ł–Ľ–ł –≤ –ī—Ä—É–≥–ĺ–ľ –ĺ–Ī–Ľ—é–Ī–ĺ–≤–į–Ĺ–Ĺ–ĺ–ľ –Ĺ–į—ą–Ķ–Ļ –ļ–ĺ–ľ–Ņ–į–Ĺ–ł–Ķ–Ļ –ľ–Ķ—Ā—ā–Ķ, –≥–ĺ—Ä–Ľ–į–Ĺ–ł–Ľ –ļ–į–ļ–ĺ–Ļ-–Ĺ–ł–Ī—É–ī—Ć ¬ę–§–į–Ĺ—ā–ĺ–ľ¬Ľ, ¬ę16 —ā–ĺ–ŬĽ –ł–Ľ–ł ¬ę–ú—É—Ä–ļ—ɬĽ, –Ņ–ĺ–ī –≤–ī–ĺ—Ö–Ĺ–ĺ–≤–Ľ—Ź—é—Č–ł–Ķ –Ņ–ĺ—Ö–≤–į–Ľ—č –ī—Ä—É–∑–Ķ–Ļ –ł –Ĺ–į–∑–Ľ–ĺ –∂–ł–Ľ—Ć—Ü–į–ľ –ĺ–ļ—Ä—É–∂–į—é—Č–ł—Ö –ļ—Ä—É–Ņ–Ĺ–ĺ-–Ņ–į–Ĺ–Ķ–Ľ—Ć–Ĺ—č—Ö –ī–ĺ–ľ–ĺ–≤, –ļ–ĺ—ā–ĺ—Ä—č–Ķ, –≤–Ņ—Ä–ĺ—á–Ķ–ľ, –Ĺ–Ķ –∂–į–Ľ–ĺ–≤–į–Ľ–ł—Ā—Ć. –ź –ľ–ĺ–∂–Ķ—ā –ł –∂–į–Ľ–ĺ–≤–į–Ľ–ł—Ā—Ć, –Ĺ–ĺ –Ĺ–Ķ –≤—Ā–Ľ—É—Ö, —ā–į–ļ –ļ–į–ļ –Ņ–ĺ–ī—Ö–ĺ–ī–ł—ā—Ć –ļ –ī—é–∂–ł–Ĺ–Ķ –ī–Ľ–ł–Ĺ–Ĺ–ĺ–≤–ĺ–Ľ–ĺ—Ā—č—Ö —é–Ĺ—Ü–ĺ–≤ –ľ–į–Ľ–ĺ –ļ—ā–ĺ —Ä–Ķ—ą–į–Ľ—Ā—Ź.
–Ė–ł–∑–Ĺ—Ć –ľ–ĺ–Ľ–ĺ–ī–ĺ–≥–ĺ —á–Ķ–Ľ–ĺ–≤–Ķ–ļ–į, —É–ľ–Ķ—é—Č–Ķ–≥–ĺ –ł–≥—Ä–į—ā—Ć –Ĺ–į –≥–ł—ā–į—Ä–Ķ, –Ľ–Ķ–≥–ļ–į. –Ě–Ķ –Ĺ—É–∂–Ĺ–ĺ –Ĺ–ł–ļ–ĺ–ľ—É –ī–ĺ–ļ–į–∑—č–≤–į—ā—Ć —Ā–≤–ĺ—é –≤–Ķ—Ä–Ĺ–ĺ—Ā—ā—Ć ¬ę–Ņ—Ä–į–≤–ł–Ľ—Ć–Ĺ—č–ľ–ł¬Ľ –Ņ–ĺ—Ā—ā—É–Ņ–ļ–į–ľ–ł –ł–Ľ–ł —ā—Ä—É–ī–Ĺ—č–ľ–ł –ł—Ā–Ņ—č—ā–į–Ĺ–ł—Ź–ľ–ł: —Ā–Ņ–Ķ–Ľ –Ĺ–Ķ—Ā–ļ–ĺ–Ľ—Ć–ļ–ĺ —Ö–Ľ–Ķ—Ā—ā–ļ–ł—Ö –Ņ–Ķ—Ā–Ķ–Ĺ ‚ÄĒ –ł —ā—č —É–∂–Ķ —Ā–≤–ĺ–Ļ –Ņ–į—Ä–Ķ–Ĺ—Ć, –Ľ—É—á—ą–ł–Ļ –ī—Ä—É–≥, —ā–Ķ–Ī—Ź –∑–ĺ–≤—É—ā –≤ –Ņ–ĺ—Ö–ĺ–ī—č, –Ĺ–į –≤–Ķ—á–Ķ—Ä–ł–Ĺ–ļ–ł. –ė –≥–ī–Ķ-–Ĺ–ł–Ī—É–ī—Ć –∑–į —Ā—ā–ĺ–Ľ–ĺ–ľ, –≤ ¬ę–Ņ–į—Ä–į–ī–Ĺ—Ź–ļ–Ķ¬Ľ –ł–Ľ–ł –≤ —ā–ĺ–Ļ –∂–Ķ –Ī–Ķ—Ā–Ķ–ī–ļ–Ķ –ī–Ķ—ā—Ā–ļ–ĺ–≥–ĺ —Ā–į–īa, –ĺ–Ī—Ź–∑–į—ā–Ķ–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ –Ĺ–į–Ļ–ī–Ķ—ā—Ā—Ź –ī—Ä—É–≥, –ļ–ĺ—ā–ĺ—Ä—č–Ļ –Ī—É–ī–Ķ—ā —Ā–Ľ–Ķ–ī–ł—ā—Ć –∑–į —ā–Ķ–ľ, —á—ā–ĺ–Ī—č —Ā—ā–į–ļ–į–Ĺ –ł–Ľ–ł –Ī—É—ā—č–Ľ–ļ–į ‚ÄĒ –Ķ—Ā–Ľ–ł –ł–∑ ¬ę–≥–ĺ—Ä–Ľ–į¬Ľ ‚ÄĒ –Ĺ–Ķ –ľ–ł–Ĺ–ĺ–≤–į–Ľ–į –≥–ł—ā–į—Ä–ł—Ā—ā–į, –ł –ī–į–∂–Ķ –Ņ—Ä–Ķ–Ņ–ĺ–ī–Ĺ–ĺ—Ā–ł–Ľ–į—Ā—Ć –≤–Ĺ–Ķ –ĺ—á–Ķ—Ä–Ķ–ī–ł ‚ÄĒ ¬ę–ī–Ľ—Ź –≥–ĺ–Ľ–ĺ—Ā–į¬Ľ...
–Ě–ĺ –∑–į –≤—Ā–Ķ —Ö–ĺ—Ä–ĺ—ą–Ķ–Ķ –Ņ—Ä–ł—Ö–ĺ–ī–ł—ā—Ā—Ź –Ņ–Ľ–į—ā–ł—ā—Ć. –ü—Ä–ł—ą–Ľ–ĺ—Ā—Ć –∑–į–Ņ–Ľ–į—ā–ł—ā—Ć –ł –ľ–Ĺ–Ķ, —Ö–ĺ—ā—Ź –≤ —ć—ā–ĺ–Ļ –ł—Ā—ā–ĺ—Ä–ł–ł —Ä–Ķ—ą–į—é—Č–Ķ–Ķ –∑–Ĺ–į—á–Ķ–Ĺ–ł–Ķ —Ā—č–≥—Ä–į–Ľ–į –ĺ–ī–Ĺ–į –ī–Ķ—ā–į–Ľ—Ć, –Ĺ–Ķ –ĺ—ā–Ĺ–ĺ—Ā—Ź—Č–į—Ź—Ā—Ź –ļ –Ņ–Ķ—Ā–Ĺ—Ź–ľ –ł –≥–ł—ā–į—Ä–Ķ... –Ě–ĺ –≤—Ā–Ķ –Ņ–ĺ-–Ņ–ĺ—Ä—Ź–ī–ļ—É.
–ü–ĺ–ľ–ł–ľ–ĺ —Ä–į—Ā–Ņ–Ķ–≤–į–Ĺ–ł—Ź –Ľ–ł—Ö–ł—Ö –ļ—É–Ņ–Ľ–Ķ—ā–ĺ–≤, —Ź –Ķ—Č–Ķ –ľ–Ķ—á—ā–į–Ľ –ĺ —Ā–Ķ—Ä—Ć–Ķ–∑–Ĺ–ĺ–Ļ –ļ–į—Ä—Ć–Ķ—Ä–Ķ... —Ö—É–ī–ĺ–∂–Ĺ–ł–ļ–į –ł, –Ņ–ĺ—Ā–Ľ–Ķ –ĺ–ļ–ĺ–Ĺ—á–į–Ĺ–ł—Ź –≤–ĺ—Ā—Ć–ľ–ĺ–≥–ĺ –ļ–Ľ–į—Ā—Ā–į, –Ņ–ĺ—Ā—ā—É–Ņ–ł–Ľ –≤ —Ö—É–ī–ĺ–∂–Ķ—Ā—ā–≤–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ–Ķ —É—á–ł–Ľ–ł—Č–Ķ, –∑–į–ļ—Ä–Ķ–Ņ–ł–≤ –∑–į —Ā–ĺ–Ī–ĺ–Ļ ‚ÄĒ —É–∂–Ķ –Ĺ–į –ĺ—Ą–ł—Ü–ł–į–Ľ—Ć–Ĺ—č—Ö –Ņ—Ä–į–≤–į—Ö ‚ÄĒ —Ā–≤–ĺ—é —Ā—ā–į—Ä—É—é —ą–ļ–ĺ–Ľ—Ć–Ĺ—É—é –ļ–Ľ–ł—á–ļ—É ¬ę—Ö—É–ī–ĺ–∂–Ĺ–ł–ļ¬Ľ. –ú–ĺ–ł —ą–ļ–ĺ–Ľ—Ć–Ĺ—č–Ķ –ł –ī–≤–ĺ—Ä–ĺ–≤—č–Ķ –ī—Ä—É–∑—Ć—Ź –ł—Ā–Ņ—č—ā—č–≤–į–Ľ–ł —Ä–Ķ–∑—É–Ľ—Ć—ā–į—ā—č –ľ–ĺ–Ķ–≥–ĺ —ā–≤–ĺ—Ä—á–Ķ—Ā—ā–≤–į –Ī—É–ļ–≤–į–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ –Ĺ–į —Ā–Ķ–Ī–Ķ ‚ÄĒ —Ź —Ä–ł—Ā–ĺ–≤–į–Ľ –ł—Ö –ī—Ä—É–∂–Ķ—Ā–ļ–ł–Ķ —ą–į—Ä–∂–ł. –£ –ļ–ĺ–≥–ĺ –Ĺ–ĺ—Ā –Ī—č–Ľ –Ņ–ĺ–Ī–ĺ–Ľ—Ć—ą–Ķ, —Ź —Ä–ł—Ā–ĺ–≤–į–Ľ –Ķ–≥–ĺ –≥—Ä–ĺ–ľ–į–ī–Ĺ—č–ľ; —É –ļ–ĺ–≥–ĺ –≥—É–Ī–į –≤—č–Ņ–ł—Ä–į–Ľ–į –≤–Ņ–Ķ—Ä–Ķ–ī –ł–Ľ–ł –∑—É–Ī—č —ā–ĺ—Ä—á–į–Ľ–ł –ļ–į–ļ —É –∑–į–Ļ—Ü–į, —Ź –Ņ—Ä–Ķ–≤—Ä–į—Č–į–Ľ –Ķ–≥–ĺ –Ņ—Ä–ĺ—Ā—ā–ĺ –≤ —á—É–ī–ĺ–≤–ł—Č–Ķ. –ú–ĺ–ł –ī—Ä—É–∑—Ć—Ź –ļ–į—ā–į–Ľ–ł—Ā—Ć –Ņ–ĺ –Ņ–ĺ–Ľ—É –ĺ—ā —Ā–ľ–Ķ—Ö–į, –Ĺ–ł–ļ–ĺ–ľ—É –Ĺ–Ķ –Ī—č–Ľ–ĺ —ć—ā–ĺ –≤ –ĺ–Ī–ł–ī—É, –ļ–į–∂–ī—č–Ļ –ĺ–Ī—ä–Ķ–ļ—ā –ľ–ĺ–Ķ–≥–ĺ ¬ę—ą–į—Ä–∂–ł—Ä–ĺ–≤–į–Ĺ–ł—Ź¬Ľ —Ö–ĺ—ā—Ć –ł –ļ–ł—Ā–Ľ–ĺ –Ņ–ĺ–≥–Ľ—Ź–ī—č–≤–į–Ľ –Ĺ–į –Ņ–ĺ—Ź–≤–Ľ—Ź—é—Č–Ķ–Ķ—Ā—Ź –ł–∑–ĺ–Ī—Ä–į–∂–Ķ–Ĺ–ł–Ķ —Ā–į–ľ–ĺ–≥–ĺ —Ā–Ķ–Ī—Ź, –∑–Ĺ–į–Ľ, —á—ā–ĺ –ĺ—ā—Ā–ľ–Ķ—Ď—ā—Ā—Ź —Ā–Ņ–ĺ–Ľ–Ĺ–į –Ĺ–į–ī —Ä–ł—Ā—É–Ĺ–ļ–ĺ–ľ —Ā–Ľ–Ķ–ī—É—é—Č–Ķ–Ļ –∂–Ķ—Ä—ā–≤—č. –Ě–į –ī–≤–Ķ—Ä—Ź—Ö –ł —Ā—ā–Ķ–Ĺ–į—Ö –Ņ–į—Ä–į–ī–Ĺ—č—Ö, –Ĺ–į —ą–ļ–ĺ–Ľ—Ć–Ĺ—č—Ö —ā–Ķ—ā—Ä–į–ī—Ź—Ö –ł —É—á–Ķ–Ī–Ĺ–ł–ļ–į—Ö, –Ĺ–į –Ņ–į—á–ļ–į—Ö —Ā–ł–≥–į—Ä–Ķ—ā... ‚ÄĒ —Ā–ľ–Ķ—ą–Ĺ—č–Ķ –Ľ–ł—Ü–į –ľ–ĺ–ł—Ö –ī—Ä—É–∑–Ķ–Ļ –Ņ–ĺ—Ź–≤–Ľ—Ź–Ľ–ł—Ā—Ć –≤–Ķ–∑–ī–Ķ.
–Ď—č–Ľ–ł –ł –ī—Ä—É–≥–ł–Ķ ¬ę–∑–į–ļ–į–∑—謼. –ě–ī–ł–Ĺ –ł–∑ –Ņ–ĺ—á–ł—ā–į—ā–Ķ–Ľ–Ķ–Ļ –ľ–ĺ–Ķ–≥–ĺ ¬ę–ł—Ā–ļ—É—Ā—Ā—ā–≤–į¬Ľ, –Ņ–į—Ü–į–Ĺ –ł–∑ —Ā–ĺ—Ā–Ķ–ī–Ĺ–Ķ–≥–ĺ –ī–ĺ–ľ–į –Ņ–ĺ –ļ–Ľ–ł—á–ļ–Ķ –ź–Ľ—č–Ļ, –≤—Ā—ā—Ä–Ķ—ā–ł–≤ –ľ–Ķ–Ĺ—Ź –≤–ĺ –ī–≤–ĺ—Ä–Ķ, –≤–Ķ–∂–Ľ–ł–≤–ĺ —Ā–Ņ—Ä–ĺ—Ā–ł–Ľ: ¬ę–Ę—č, –≤ –Ĺ–į—ā—É—Ä–Ķ, —Ö—É–ī–ĺ–∂–Ĺ–ł–ļ, –ļ–ĺ—Ä–ĺ—á–Ķ, –ľ–ĺ–≥ –Ī—č –Ĺ–į—Ä–ł—Ā–ĺ–≤–į—ā—Ć –ł–Ĺ–ī–Ķ–Ļ—Ü–į —É –ľ–Ķ–Ĺ—Ź –Ĺ–į —Ö–į—ā–Ķ?¬Ľ ¬ę–ö–į–ļ –Ĺ–Ķ —Ą–ł–≥ –ī–Ķ–Ľ–į—ā—ƬĽ, ‚ÄĒ —ā–į–ļ –∂–Ķ –≤–Ķ–∂–Ľ–ł–≤–ĺ —Ā–ĺ–≥–Ľ–į—Ā–ł–Ľ—Ā—Ź —Ź. –Ē–ĺ–ľ–į —É –Ĺ–Ķ–≥–ĺ –Ĺ–Ķ –ĺ–ļ–į–∑–į–Ľ–ĺ—Ā—Ć –Ĺ–ł–ļ–į–ļ–ĺ–≥–ĺ –Ņ–ĺ–ī—Ö–ĺ–ī—Ź—Č–Ķ–≥–ĺ –≥—Ä–į—Ą–ł—á–Ķ—Ā–ļ–ĺ–≥–ĺ –ľ–į—ā–Ķ—Ä–ł–į–Ľ–į, –ļ—Ä–ĺ–ľ–Ķ —ą–į—Ä–ł–ļ–ĺ–≤–ĺ–Ļ —Ä—É—á–ļ–ł —Ā —Ą–ł–ĺ–Ľ–Ķ—ā–ĺ–≤—č–ľ —Ā—ā–Ķ—Ä–∂–Ĺ–Ķ–ľ. –Ě–ĺ –ź–Ľ–ĺ–ľ—É –Ī—č–Ľ–ĺ –Ĺ–Ķ–≤—ā–Ķ—Ä–Ņ–Ķ–∂, –ł —Ź, —ā—É—ā –∂–Ķ –Ĺ–į –ĺ–Ī–ĺ—Ź—Ö –Ķ–≥–ĺ –ļ–ĺ–ľ–Ĺ–į—ā—č, —ą–į—Ä–ł–ļ–ĺ–≤–ĺ–Ļ —Ä—É—á–ļ–ĺ–Ļ –Ĺ–į—Ä–ł—Ā–ĺ–≤–į–Ľ –ł–Ĺ–ī–Ķ–Ļ—Ü–į —Ā —Ā—É—Ä–ĺ–≤—č–ľ –≤–∑–≥–Ľ—Ź–ī–ĺ–ľ –ł —ā–ĺ–ľ–į–≥–į–≤–ļ–ĺ–ľ, –ļ–ĺ—ā–ĺ—Ä—č–Ļ, –Ņ—Ä–ł–≥–Ĺ—É–≤—ą–ł—Ā—Ć –ł –ĺ—Ā—ā–ĺ—Ä–ĺ–∂–Ĺ–ĺ —Ä–į–∑–ī–≤–ł–≥–į—Ź –ļ–į–ľ—č—ą–ł, –≤—č—Ö–ĺ–ī–ł—ā –Ĺ–į –Ĺ–į—Ā –ł–∑ —Ā—ā–Ķ–Ĺ—č. –ü–ĺ–Ľ—É—á–ł–Ľ–ĺ—Ā—Ć –∑–ī–ĺ—Ä–ĺ–≤–ĺ! –ú—č –ĺ–Ī–į –Ī—č–Ľ–ł –≥–ĺ—Ä–ī—č. –Į ‚ÄĒ –Ņ—Ä–ĺ–Ņ–ĺ—Ä—Ü–ł—Ź–ľ–ł –Ņ–ĺ –Ņ–ĺ—Ź—Ā –ĺ–Ī–Ĺ–į–∂–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ–≥–ĺ —ā–Ķ–Ľ–į, –į –ź–Ľ—č–Ļ ‚ÄĒ —ā–Ķ–ľ, —á—ā–ĺ –∑–į–Ņ–ĺ–Ľ—É—á–ł–Ľ ‚ÄĒ –Ņ—Ä—Ź–ľ–ĺ –Ĺ–į —Ā–≤–ĺ–Ķ–Ļ —Ā—ā–Ķ–Ĺ–Ķ ‚ÄĒ –ß–ł–Ĺ–≥–į—á–≥—É–ļ–į‚Ķ
–Ě—É –≤–ĺ—ā —Ź –ł –Ņ–ĺ–ī–ĺ—ą–Ķ–Ľ –ļ –ĺ—Ā–Ĺ–ĺ–≤–Ĺ–ĺ–Ļ —á–į—Ā—ā–ł –ľ–ĺ–Ķ–≥–ĺ —Ä–į—Ā—Ā–ļ–į–∑–į.
–ě–ī–Ĺ–į–∂–ī—č ‚ÄĒ –ī–Ķ–Ľ–ĺ –Ī—č–Ľ–ĺ –ĺ—Ā–Ķ–Ĺ—Ć—é ‚ÄĒ —Ź –≤–∑—Ź–Ľ –≥–ł—ā–į—Ä—É –ł –Ņ–ĺ–Ķ—Ö–į–Ľ –Ĺ–į —ā—Ä–į–ľ–≤–į–Ķ –≤ –ī—Ä—É–≥–ĺ–Ļ —Ä–į–Ļ–ĺ–Ĺ –≥–ĺ—Ä–ĺ–ī–į, –Ĺ–į–≤–Ķ—Ā—ā–ł—ā—Ć –ĺ–ī–Ĺ–ĺ–≥–ĺ –ľ–ĺ–Ķ–≥–ĺ –ī—Ä—É–≥–į, —Ā–Ķ–ľ—Ć—Ź –ļ–ĺ—ā–ĺ—Ä–ĺ–≥–ĺ –Ņ–ĺ–Ľ—É—á–ł–Ľ–į –Ĺ–ĺ–≤—É—é –ļ–≤–į—Ä—ā–ł—Ä—É –ł –Ņ–Ķ—Ä–Ķ–Ķ—Ö–į–Ľ–į –Ĺ–į –Ĺ–ĺ–≤–ĺ–Ķ –ľ–Ķ—Ā—ā–ĺ. –ú—č —Ā –Ĺ–ł–ľ —É—Ā–Ķ–Ľ–ł—Ā—Ć –Ĺ–į —Ā–ļ–į–ľ–Ķ–Ķ—á–ļ–Ķ –≤–ĺ –ī–≤–ĺ—Ä–Ķ –ī–ĺ–ľ–į, —Ä–į–∑–≥–ĺ–≤–į—Ä–ł–≤–į–Ľ–ł, –Ī—Ä–Ķ–Ĺ—á–į–Ľ–ł –Ĺ–į –≥–ł—ā–į—Ä–Ķ, –ļ–ĺ—Ä–ĺ—á–Ķ –ĺ–Ī—Č–į–Ľ–ł—Ā—Ć. –í–ī—Ä—É–≥ –ł–∑ –Ī–Ľ–ł–∂–į–Ļ—ą–Ķ–Ļ –Ņ–į—Ä–į–ī–Ĺ–ĺ–Ļ –≤—č—ą–Ķ–Ľ –ľ–ĺ–Ľ–ĺ–ī–ĺ–Ļ —á–Ķ–Ľ–ĺ–≤–Ķ–ļ –ł –Ĺ–į–Ņ—Ä–į–≤–ł–Ľ—Ā—Ź –ļ –Ĺ–į–ľ. –ü–ĺ–ī–ĺ–Ļ–ī—Ź, –ĺ–Ĺ –Ņ–ĺ–∑–ī–ĺ—Ä–ĺ–≤–į–Ľ—Ā—Ź –ł —Ā–ļ–į–∑–į–Ľ, —á—ā–ĺ —Ö–ĺ—á–Ķ—ā –Ņ—Ä–ł–≥–Ľ–į—Ā–ł—ā—Ć –Ĺ–į—Ā –Ĺ–į –≤–Ķ—á–Ķ—Ä–ł–Ĺ–ļ—É, —ā–į–ļ –ļ–į–ļ –≤—Ā–Ķ —É –Ĺ–ł—Ö, —Ź–ļ–ĺ–Ī—č, –Ķ—Ā—ā—Ć, –ļ—Ä–ĺ–ľ–Ķ –ľ—É–∑—č–ļ–ł.
–í –Ĺ–į–ļ—É—Ä–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ–Ļ –ļ–≤–į—Ä—ā–ł—Ä–Ķ, –∑–į —Ā—ā–ĺ–Ľ–ĺ–ľ –Ĺ–į –≤—Ā—é –ļ–ĺ–ľ–Ĺ–į—ā—É, —Ā–ł–ī–Ķ–Ľ–ĺ —á–Ķ–Ľ–ĺ–≤–Ķ–ļ –Ņ—Ź—ā–Ĺ–į–ī—Ü–į—ā—Ć ‚ÄĒ –Ľ—é–ī–ł –ľ–ĺ–Ľ–ĺ–ī—č–Ķ, –Ĺ–ĺ –Ņ–ĺ—Ā—ā–į—Ä—ą–Ķ –Ĺ–į—Ā. –ď–ĺ—Ā—ā–Ķ–Ņ—Ä–ł–ł–ľ–Ĺ–ĺ —É—Ā–į–ī–ł–≤ –∑–į —Ā—ā–ĺ–Ľ, –Ĺ–į–ľ –Ĺ–į–Ľ–ł–Ľ–ł –≤–ĺ–ī–ļ–ł –ł –Ņ—Ä–Ķ–ī–Ľ–ĺ–∂–ł–Ľ–ł –∑–į–ļ—É—Ā–ļ—É, –ĺ—ā –ļ–ĺ—ā–ĺ—Ä–ĺ–Ļ, –Ĺ–į–ī–ĺ —Ā–ļ–į–∑–į—ā—Ć, —Ā—ā–ĺ–Ľ –Ĺ–Ķ –Ľ–ĺ–ľ–ł–Ľ—Ā—Ź ‚ÄĒ —ā–į–ļ, –ļ–į–ļ–ł–Ķ-—ā–ĺ –ļ–ĺ–Ĺ—Ā–Ķ—Ä–≤—č, —Ö–Ľ–Ķ–Ī, —Ā–ĺ–Ľ–Ķ–Ĺ—č–Ķ –ĺ–≥—É—Ä—Ü—č –ł —á—ā–ĺ-—ā–ĺ –Ķ—Č–Ķ –≤ —ć—ā–ĺ–ľ —Ä–ĺ–ī–Ķ. –í—Ā–Ķ —Ź–≤–Ĺ–ĺ –ĺ–∂–ł–ī–į–Ľ–ł –ĺ—ā –ľ–Ķ–Ĺ—Ź –Ņ–Ķ—Ā–Ķ–Ĺ. –í–ĺ –≥–Ľ–į–≤–Ķ —Ā—ā–ĺ–Ľ–į —Ā–ł–ī–Ķ–Ľ –≥—Ä—É–∑–Ĺ—č–Ļ —á–Ķ–Ľ–ĺ–≤–Ķ–ļ —Ā –Ī–ĺ–Ľ—Ć—ą–ł–ľ –Ī–į–≥—Ä–ĺ–≤—č–ľ –Ľ–ł—Ü–ĺ–ľ –ł –≥–Ľ—É–Ī–ĺ–ļ–ĺ –Ņ–ĺ—Ā–į–∂–Ķ–Ĺ–Ĺ—č–ľ–ł –Ņ–ĺ–ī –Ĺ–į–≤–ł—Ā–į—é—Č–ł–ľ –Ľ–Ī–ĺ–ľ –≥–Ľ–į–∑–į–ľ–ł. –ü—Ä–ł –ĺ–ī–Ĺ–ĺ–ľ –≤–∑–≥–Ľ—Ź–ī–Ķ –Ĺ–į –Ĺ–Ķ–≥–ĺ –Ī—č–Ľ–ĺ –≤–ł–ī–Ĺ–ĺ, —á—ā–ĺ —á–Ķ–Ľ–ĺ–≤–Ķ–ļ –ĺ–Ĺ ‚ÄĒ —ā—Ź–∂–Ķ–Ľ—č–Ļ, –ļ–į–ļ —Ā–Ĺ–į—Ä—É–∂–ł —ā–į–ļ –ł —Ā–Ĺ—É—ā—Ä–ł‚Ķ –Ď—č–Ľ–ĺ —Ź—Ā–Ĺ–ĺ, —á—ā–ĺ –∑–į—Ā—ā–ĺ–Ľ—Ć–Ķ ‚ÄĒ –≤ –Ķ–≥–ĺ —á–Ķ—Ā—ā—Ć. –ö—ā–ĺ-—ā–ĺ –ī–į–∂–Ķ —ą–Ķ–Ņ–Ĺ—É–Ľ –Ĺ–į–ľ, —á—ā–ĺ –ď—Ä–ł—ą–į —ā–ĺ–Ľ—Ć–ļ–ĺ —á—ā–ĺ ¬ę–ĺ—ā–ļ–ł–Ĺ—É–Ľ—Ā—Ź¬Ľ, —ā–ĺ –Ķ—Ā—ā—Ć –≤—č—ą–Ķ–Ľ –ł–∑ —ā—é—Ä—Ć–ľ—č. –Į –≤–∑—Ź–Ľ –Ņ–į—Ä—É –∑–≤–ĺ–Ĺ–ļ–ł—Ö –į–ļ–ļ–ĺ—Ä–ī–ĺ–≤ –ł –∑—č—á–Ĺ—č–ľ –≥–ĺ–Ľ–ĺ—Ā–ĺ–ľ, –Ĺ–Ķ—Ā–ļ–ĺ–Ľ—Ć–ļ–ĺ —Ā–ľ–ĺ—á–Ķ–Ĺ–Ĺ—č–ľ –į–Ľ–ļ–ĺ–≥–ĺ–Ľ–Ķ–ľ, –∑–į–≤–ĺ–Ņ–ł–Ľ ¬ę–ú—É—Ä–ļ—ɬĽ. –í–ĺ–ĺ–ī—É—ą–Ķ–≤–ł–≤—ą–ł—Ā—Ć –ĺ–ī–ĺ–Ī—Ä—Ź—é—Č–ł–ľ–ł –≤–ĺ–∑–≥–Ľ–į—Ā–į–ľ–ł –≥–ĺ—Ā—ā–Ķ–Ļ, —Ź —Ā–Ņ–Ķ–Ľ –Ķ—Č–Ķ –Ĺ–Ķ—Ā–ļ–ĺ–Ľ—Ć–ļ–ĺ –Ņ–Ķ—Ā–Ķ–Ĺ –ł–∑ –Ņ–ĺ—Ö–ĺ–∂–Ķ–≥–ĺ —Ä–Ķ–Ņ–Ķ—Ä—ā—É–į—Ä–į. –ź –ľ–ĺ–Ļ –ī—Ä—É–≥, —ā–ĺ–∂–Ķ —É–∂–Ķ ¬ę–Ņ–ĺ—Ö–ĺ—Ä–ĺ—ą–Ķ–≤—ą–ł–Ļ¬Ľ, –Ņ–ĺ–ī–Ĺ–į—á–ł–≤–į–Ľ –ľ–Ķ–Ĺ—Ź: ¬ę—ā—č, —Ö—É–ī–ĺ–∂–Ĺ–ł–ļ, –ī–į–≤–į–Ļ –ö–į—Ä–į–≤–į–Ĺ!¬Ľ –ł–Ľ–ł ¬ę–≤–ĺ—ā, —Ö—É–ī–ĺ–∂–Ĺ–ł–ļ, –ļ–Ľ–į—Ā—Ā–Ĺ–ĺ –Ľ–į–Ī–į–Ķ—ā!¬Ľ –ł —ā. –ī. –ü–ĺ—Ö–ĺ–∂–Ķ –Ī—č–Ľ–ĺ, —á—ā–ĺ –ļ–ĺ–ľ–Ņ–į–Ĺ–ł–ł —Ź –Ņ—Ä–ł—ą–Ķ–Ľ—Ā—Ź –Ņ–ĺ –≤–ļ—É—Ā—É –ł, —á—É–≤—Ā—ā–≤—É—Ź —É—Ā–Ņ–Ķ—Ö, –ĺ—Ä–į–Ľ –ļ–į–ļ –ľ–ĺ–≥. –ú–Ĺ–Ķ –Ņ–ĺ–ī–Ľ–ł–≤–į–Ľ–ł –Ķ—Č–Ķ, –ł —Ź —É–∂–Ķ –ĺ—Č—É—Č–į–Ľ —Ā–Ķ–Ī—Ź –ļ–į–ļ –ī–ĺ–ľ–į. –ü—Ä–ł—ą–Ľ–ĺ—Ā—Ć –Ņ–ĺ –≤–ļ—É—Ā—É –ľ–ĺ–Ķ –≤—č—Ā—ā—É–Ņ–Ľ–Ķ–Ĺ–ł–Ķ –ł –ď—Ä–ł—ą–Ķ, –Ľ–ł—Ü–ĺ –ļ–ĺ—ā–ĺ—Ä–ĺ–≥–ĺ –∑–Ĺ–į—á–ł—ā–Ķ–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ –ĺ—ā—Ź–∂–Ķ–Ľ—Ď–Ĺ–Ĺ–ĺ–Ķ –≤–ĺ–ī–ļ–ĺ–Ļ, –≤—č—Ź–≤–Ľ—Ź–Ľ–ĺ —Ā–Ľ–į–Ī—č–Ķ –Ĺ–ĺ—ā–ļ–ł —É–ī–ĺ–≤–ĺ–Ľ—Ć—Ā—ā–≤–ł—Ź, –Ĺ–ĺ –Ņ—Ä–ł—Ä–ĺ–ī–Ĺ–į—Ź —ā—Ź–∂–Ķ—Ā—ā—Ć –≤—Ā–Ķ –∂–Ķ –Ņ—Ä–Ķ–≤–į–Ľ–ł—Ä–ĺ–≤–į–Ľ–į –ł –ī–į–≤–ł–Ľ–į –Ĺ–į —Ö–ĺ–∑—Ź–ł–Ĺ–į –∑–į—Ā—ā–ĺ–Ľ—Ć—Ź –Ķ—Č–Ķ —Ā–ł–Ľ—Ć–Ĺ–Ķ–Ļ. –ď—Ä–ł—ą–į —Ä–Ķ–ī–ļ–ĺ —á—ā–ĺ –≥–ĺ–≤–ĺ—Ä–ł–Ľ, —Ö–ĺ—ā—Ź –ļ–į–ļ–ĺ–Ķ-—ā–ĺ –ĺ–Ī—Č–Ķ–Ĺ–ł–Ķ —Ā —Ā–ł–ī—Ź—Č–ł–ľ–ł —Ä—Ź–ī–ĺ–ľ –Ľ—é–ī—Ć–ľ–ł –Ņ—Ä–ĺ–ł—Ā—Ö–ĺ–ī–ł–Ľ–ĺ. –í –ĺ–ī–ł–Ĺ –ľ–ĺ–ľ–Ķ–Ĺ—ā —Ź –Ņ–ĺ—á—É–≤—Ā—ā–≤–ĺ–≤–į–Ľ, —á—ā–ĺ –Ķ–≥–ĺ –Ľ–ł—Ü–ĺ, –ļ–į–ļ –ľ–ĺ—Č–Ĺ–į—Ź –≥–į—É–Ī–ł—Ü–į, —Ü–Ķ–Ľ–Ķ–Ĺ–į–Ņ—Ä–į–≤–Ľ–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ –Ņ–ĺ–≤–Ķ—Ä–Ĺ—É–Ľ–ĺ—Ā—Ć –ļ–ĺ –ľ–Ĺ–Ķ, –ł –ĺ–Ĺ —Ā–Ņ—Ä–ĺ—Ā–ł–Ľ: ¬ę–ź –Ņ–ĺ—á–Ķ–ľ—É —ā–Ķ–Ī—Ź –Ĺ–į–∑—č–≤–į—é—ā —Ö—É–ī–ĺ–∂–Ĺ–ł–ļ–ĺ–ľ?¬Ľ ¬ę–£—á—É—Ā—Ć, –≤ —Ö—É–ī–ĺ–∂–Ķ—Ā—ā–≤–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ–ľ —É—á–ł–Ľ–ł—Č–Ķ.¬Ľ ¬ę–ź –ľ–Ķ–Ĺ—Ź... –ľ–ĺ–∂–Ķ—ą—Ć –Ĺ–į—Ä–ł—Ā–ĺ–≤–į—ā—Ć?¬Ľ ¬ę–ö–ĺ–Ĺ–Ķ—á–Ĺ–ĺ, –Ĺ–ĺ —ā–ĺ–Ľ—Ć–ļ–ĺ —ą–į—Ä–∂ (—ā–Ķ—Ä–ľ–ł–Ĺ —Ź–≤–Ĺ–ĺ –Ĺ–Ķ –∑–į–∂–Ķ–≥ –Ľ–į–ľ–Ņ–ĺ—á–ļ—É –≤ —É–ľ–Ķ –ď—Ä–ł–≥–ĺ—Ä–ł—Ź), –ī–Ľ—Ź —Ā–Ķ—Ä—Ć—Ď–∑–Ĺ–ĺ–≥–ĺ –Ņ–ĺ—Ä—ā—Ä–Ķ—ā–į –Ĺ—É–∂–Ĺ–ĺ –≤—Ä–Ķ–ľ—Ź ...¬Ľ ¬ę–ü–ĺ—Ö–ĺ–∂–Ķ –Ī—É–ī–Ķ—ā? –Ę–ĺ–≥–ī–į –ī–į–≤–į–Ļ, –≤–į–Ľ—Ź–Ļ¬Ľ, ‚ÄĒ –ď—Ä–ł—ą–į –Ī—č–Ľ –≥–ĺ—ā–ĺ–≤. –ü–Ķ—Ä–Ķ–ī–ĺ –ľ–Ĺ–ĺ–Ļ —Ā—Ä–į–∑—É –∂–Ķ –ĺ—ā–ļ—É–ī–į-—ā–ĺ –Ņ–ĺ—Ź–≤–ł–Ľ—Ā—Ź –Ľ–ł—Ā—ā–ĺ–ļ –Ī—É–ľ–į–≥–ł, —ā–ł–Ņ–į —Ā—ā–ĺ–Ľ–ĺ–≤—Ā–ļ–ĺ–Ļ —Ā–į–Ľ—Ą–Ķ—ā–ļ–ł, –ł –ļ–į—Ä–į–Ĺ–ī–į—ą. –í—Ā–Ķ —Ā –ł–Ĺ—ā–Ķ—Ä–Ķ—Ā–ĺ–ľ –Ņ—Ä–ł–≥–ĺ—ā–ĺ–≤–ł–Ľ–ł—Ā—Ć –ļ –ī–ł–ļ–ĺ–≤–ł–Ĺ–Ĺ–ĺ–ľ—É –Ņ—Ä–Ķ–ī—Ā—ā–į–≤–Ľ–Ķ–Ĺ–ł—é. –Į –ĺ–Ņ—Ź—ā—Ć –Ī—č–Ľ —Ü–Ķ–Ĺ—ā—Ä–ĺ–ľ –≤–Ĺ–ł–ľ–į–Ĺ–ł—Ź, –Ĺ–ĺ –≤ —ć—ā–ĺ—ā —Ä–į–∑ ‚ÄĒ –≤ —ā–ł—ą–ł–Ĺ–Ķ. –•–į—Ä–į–ļ—ā–Ķ—Ä –ď—Ä–ł—ą–ł–Ĺ–ĺ–≥–ĺ –Ľ–ł—Ü–į –Ņ–ĺ–Ļ–ľ–į—ā—Ć –Ī—č–Ľ–ĺ —Ā–ĺ–≤—Ā–Ķ–ľ –Ĺ–Ķ —ā—Ä—É–ī–Ĺ–ĺ. –ě–Ĺ –Ņ—Ä–ĺ—Ā—ā–ĺ –Ņ—Ä–ĺ—Ā–ł–Ľ—Ā—Ź –Ņ–ĺ–ī –ļ–į—Ä–į–Ĺ–ī–į—ą –ļ–į—Ä–ł–ļ–į—ā—É—Ä–ł—Ā—ā–į. –Į —É–≤–Ķ—Ä–Ķ–Ĺ–Ĺ—č–ľ–ł –Ľ–ł–Ĺ–ł—Ź–ľ–ł –Ĺ–į—á–Ķ—Ä—ā–į–Ľ –ĺ–≤–į–Ľ –≥—Ä—É–∑–Ĺ–ĺ–≥–ĺ –Ľ–ł—Ü–į, –≥—Ä–ĺ–ľ–į–ī–Ĺ—č–Ķ –Ĺ–į–ī–Ī—Ä–ĺ–≤–Ĺ—č–Ķ –Ī—É–≥—Ä—č, –Ņ–ĺ–ī –ļ–ĺ—ā–ĺ—Ä—č–Ķ –≥–Ľ—É–Ī–ĺ–ļ–ĺ –∑–į—Ā–į–ī–ł–Ľ –ľ–į–Ľ—é—Ā–Ķ–Ĺ—Ć–ļ–ł–Ķ –≥–Ľ–į–∑–ļ–ł, —Ā–Ķ–≤—ą–ł–Ķ –Ķ—Č–Ķ –≥–Ľ—É–Ī–∂–Ķ –ł–∑-–∑–į —ā–ĺ–Ľ—Ā—ā–ĺ–Ļ –ļ–ĺ—Ä–ĺ—ā–ļ–ĺ–Ļ –ļ–į—Ä—ā–ĺ—ą–ļ–ł –Ĺ–ĺ—Ā–į –ł –Ņ–ĺ–≤–ł—Ā—ą–ł—Ö —Ā–Ĺ–ł–∑—É –Ņ—É—Ö–Ľ—č—Ö –≥—É–Ī –ł –Ņ–ĺ–ī–Ī–ĺ—Ä–ĺ–ī–ļ–į. –®–į—Ä–∂ –Ņ–ĺ–Ľ—É—á–ł–Ľ—Ā—Ź –Ĺ–į —Ā–Ľ–į–≤—É, —Ź –≤–Ĺ—É—ā—Ä–Ķ–Ĺ–Ĺ–Ķ –Ľ–ł–ļ–ĺ–≤–į–Ľ, –ł –∑–į –∑–į–≤–Ķ—Ā–ĺ–Ļ —Ā–≤–ĺ–Ķ–≥–ĺ —ā–≤–ĺ—Ä—á–Ķ—Ā–ļ–ĺ–≥–ĺ —É—Ā–Ņ–Ķ—Ö–į –ł –į–Ľ–ļ–ĺ–≥–ĺ–Ľ—Ź –Ĺ–Ķ —É–Ľ–ĺ–≤–ł–Ľ, —á—ā–ĺ –≤—Ā—Ź –ļ–ĺ–ľ–Ĺ–į—ā–į –Ņ–ĺ–≥—Ä—É–∑–ł–Ľ–į—Ā—Ć –≤ –Ņ–ĺ–Ľ–Ĺ—É—é —ā–ł—ą–ł–Ĺ—É. –Į —Ā –≥–ĺ—Ä–ī–ĺ—Ā—ā—Ć—é –Ņ—Ä–ĺ—ā—Ź–Ĺ—É–Ľ —Ā–≤–ĺ–Ļ —ą–Ķ–ī–Ķ–≤—Ä –ď—Ä–ł—ą–Ķ, –Ĺ–Ķ –∑–į–ľ–Ķ—á–į—Ź —ā–ĺ–≥–ĺ, —á—ā–ĺ –ł–∑ –≤—Ā–Ķ–Ļ –ļ–ĺ–ľ–Ņ–į–Ĺ–ł–ł —É–Ľ—č–Ī–į—é—Ā—Ć –ł —Ö–ł—Ö–ł–ļ–į—é —Ź –ĺ–ī–ł–Ĺ. –ď—Ä–ł—ą–į –≤–∑—Ź–Ľ –Ľ–ł—Ā—ā–ĺ–ļ, –Ī–Ķ–∑ –Ķ–ī–ł–Ĺ–ĺ–≥–ĺ –Ĺ–į–ľ–Ķ–ļ–į –Ĺ–į —É–Ľ—č–Ī–ļ—É –Ņ–ĺ–≤–Ķ—Ä–Ĺ—É–Ľ—Ā—Ź –ļ —Ä—Ź–ī–ĺ–ľ —Ā–ł–ī—Ź—Č–Ķ–ľ—É —á–Ķ–Ľ–ĺ–≤–Ķ–ļ—É –ł —Ā–Ņ—Ä–ĺ—Ā–ł–Ľ: ¬ę–≠—ā–ĺ —Ź?¬Ľ –ě—ā–≤–Ķ—ā–į —ā–ĺ–≥–ĺ —á–Ķ–Ľ–ĺ–≤–Ķ–ļ–į —Ź –Ĺ–Ķ —É—Ā–Ľ—č—ą–į–Ľ, –Ņ–ĺ—ā–ĺ–ľ—É —á—ā–ĺ –ļ—ā–ĺ-—ā–ĺ –ī–ĺ–≤–ĺ–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ —ć–Ĺ–Ķ—Ä–≥–ł—á–Ĺ–ĺ —ą–Ķ–Ņ–Ĺ—É–Ľ –ľ–Ĺ–Ķ –Ĺ–į —É—Ö–ĺ: ¬ę–°–≤–į–Ľ–ł–≤–į–Ļ...¬Ľ –ė–∑ –Ņ—Ä–ĺ–ł—Ā—Ö–ĺ–ī–ł–≤—ą–Ķ–≥–ĺ –≤ —Ā–Ľ–Ķ–ī—É—é—Č–ł–Ķ –ľ–ł–Ĺ—É—ā—č –ł–Ľ–ł –ī–į–∂–Ķ —Ā–Ķ–ļ—É–Ĺ–ī—č —Ź –Ņ–ĺ–ľ–Ĺ—é –Ĺ–Ķ –ľ–Ĺ–ĺ–≥–ĺ–Ķ‚Ķ –í –ľ–ĺ–Ķ–ľ –≤—Ā–Ķ –Ķ—Č–Ķ –Ĺ–Ķ —ā—Ä–Ķ–∑–≤–ĺ–ľ –ľ–ĺ–∑–≥—É –∑–į–Ņ–Ķ—á–į—ā–Ľ–Ķ–Ľ–į—Ā—Ć –ļ–į—Ä—ā–ł–Ĺ–į —ā–ĺ–≥–ĺ, —á—ā–ĺ –Ĺ–Ķ—Ā–ļ–ĺ–Ľ—Ć–ļ–ĺ —á–Ķ–Ľ–ĺ–≤–Ķ–ļ —É–ī–Ķ—Ä–∂–ł–≤–į—é—ā –ď—Ä–ł—ą—É, –ļ–ĺ—ā–ĺ—Ä—č–Ļ —Ā –Ī—É–Ļ—Ā—ā–≤–ĺ–ľ —Ä–į–∑—ä—Ź—Ä–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ–≥–ĺ –ľ–Ķ–ī–≤–Ķ–ī—Ź –ł —Ā –Ķ—Č–Ķ –Ī–ĺ–Ľ–Ķ–Ķ –Ī–į–≥—Ä–ĺ–≤—č–ľ –Ľ–ł—Ü–ĺ–ľ, —Ä–≤–Ķ—ā—Ā—Ź –ļ–ĺ –ľ–Ĺ–Ķ –ł —Ä–Ķ–≤–Ķ—ā: ¬ę–Ē—É–ľ–į–Ķ—ą—Ć, –Ķ—Ā–Ľ–ł —É —á–Ķ–Ľ–ĺ–≤–Ķ–ļ–į –Ĺ–Ķ—ā —ā–į–Ľ–į–Ĺ—ā–į, –Ĺ–į–ī –Ĺ–ł–ľ –ľ–ĺ–∂–Ĺ–ĺ –ł–∑–ī–Ķ–≤–į—ā—Ć—Ā—Ź?!!!..¬Ľ –Į—Ā–Ĺ–ĺ –Ī—č–Ľ–ĺ, —á—ā–ĺ –ī–Ľ—Ź –ĺ–Ī—Ä–į–∑–ĺ–≤–į—ā–Ķ–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ–Ļ –Ľ–Ķ–ļ—Ü–ł–ł –ĺ –ľ–ł—Ä–ĺ–Ľ—é–Ī–ł–≤–ĺ–Ļ –Ņ—Ä–ł—Ä–ĺ–ī–Ķ –ī—Ä—É–∂–Ķ—Ā–ļ–ĺ–≥–ĺ —ą–į—Ä–∂–į, –≤—Ä–Ķ–ľ—Ź –Ī—č–Ľ–ĺ –Ĺ–Ķ –Ņ–ĺ–ī—Ö–ĺ–ī—Ź—Č–ł–ľ –ł, –≤–ĺ—Ā–Ņ–ĺ–Ľ—Ć–∑–ĺ–≤–į–≤—ą–ł—Ā—Ć –ī—Ä–į–≥–ĺ—Ü–Ķ–Ĺ–Ĺ—č–ľ –ľ–ĺ–ľ–Ķ–Ĺ—ā–ĺ–ľ ‚ÄĒ –Ņ–ĺ–ļ–į —Ā —ā—Ä—É–ī–ĺ–ľ —Ā–ī–Ķ—Ä–∂–ł–≤–į–Ľ–ł –ĺ–Ī–ł–∂–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ–≥–ĺ –Ņ–ĺ—Ä—ā—Ä–Ķ—ā–ł—Ä—É–Ķ–ľ–ĺ–≥–ĺ ‚ÄĒ —Ź –Ĺ—č—Ä–Ĺ—É–Ľ –≤ —É–∑–ļ—É—é —Ä–į—Ā—Č–Ķ–Ľ–ł–Ĺ—É –ľ–Ķ–∂–ī—É —Ā—ā–ĺ–Ľ–ĺ–ľ, –ļ–į–ļ–ł–ľ-—ā–ĺ —Ā–Ķ—Ä–≤–į–Ĺ—ā–ĺ–ľ –ł —ā–Ķ–Ľ–į–ľ–ł –Ľ—é–ī–Ķ–Ļ –≤ —ā–Ķ–ľ–Ĺ—É—é –Ņ—Ä–ł—Ö–ĺ–∂—É—é, –ĺ—ā—ā—É–ī–į ‚ÄĒ –Ĺ–į –Ľ–Ķ—Ā—ā–Ĺ–ł—á–Ĺ—É—é –ļ–Ľ–Ķ—ā–ļ—É, –Ņ–ĺ—ā–ĺ–ľ —Ā —ā—Ä–Ķ—ā—Ć–Ķ–≥–ĺ —ć—ā–į–∂–į —Ā–Ľ–Ķ—ā–Ķ–Ľ –≤–Ĺ–ł–∑ –ł –ĺ–ļ–į–∑–į–Ľ—Ā—Ź –≤–ĺ –ī–≤–ĺ—Ä–Ķ. –ė —ā–ĺ–Ľ—Ć–ļ–ĺ —ā–ĺ–≥–ī–į —Ź –≤–ī—Ä—É–≥ –Ņ–ĺ–Ĺ—Ź–Ľ, —á—ā–ĺ –ľ–ĺ—Ź ¬ę–ö—Ä–Ķ–ľ–ĺ–Ĺ–į¬Ľ –ĺ—Ā—ā–į–Ľ–į—Ā—Ć —ā–į–ľ, –ļ—É–ī–į –≤–ĺ–∑–≤—Ä–į—Č–į—ā—Ć—Ā—Ź –ľ–Ĺ–Ķ –Ī—č–Ľ–ĺ –Ĺ–Ķ –∂–Ķ–Ľ–į—ā–Ķ–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ‚Ķ –ė—Ā–Ņ—É–≥ –Ņ—Ä–ĺ—ą–Ķ–Ľ –ł –Ĺ–į—Ā—ā—É–Ņ–ł–Ľ–į –Ņ—Ä–ĺ—ā–ł–≤–Ĺ–į—Ź —ā—Ä–Ķ–∑–≤–ĺ—Ā—ā—Ć, –Ņ–ĺ–≥—Ä—É–∑–ł–≤—ą–į—Ź –ľ–Ķ–Ĺ—Ź –≤ —Ä–Ķ–į–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ—Ā—ā—Ć —Ź—Ā–Ĺ–ĺ–≥–ĺ —Ā–ĺ–Ľ–Ĺ–Ķ—á–Ĺ–ĺ–≥–ĺ –ī–Ķ–Ĺ—Ć–ļ–į. –° –ĺ—Č—É—Č–Ķ–Ĺ–ł–Ķ–ľ –Ĺ–Ķ–Ņ–ĺ–Ņ—Ä–į–≤–ł–ľ–ĺ—Ā—ā–ł, –ļ–į–ľ–Ĺ–Ķ–ľ –∑–į—Ā–Ķ–≤—ą–ł–ľ –≥–ī–Ķ-—ā–ĺ –≤ –∂–ł–≤–ĺ—ā–Ķ, —Ź –≤–Ľ–Ķ–∑ –≤ –Ķ–Ľ–Ķ –Ņ–Ľ–Ķ—ā—É—Č–ł–Ļ—Ā—Ź —ā—Ä–į–ľ–≤–į–Ļ, –ł —ā–ĺ—ā –ī–≤–ł–Ĺ—É–Ľ—Ā—Ź –≤ –Ĺ–į–Ņ—Ä–į–≤–Ľ–Ķ–Ĺ–ł–ł –ī–ĺ–ľ–į.
–°–≤–ĺ—é –≥–ł—ā–į—Ä—É —Ź –≤—Ā–Ķ –∂–Ķ –Ņ–ĺ–Ľ—É—á–ł–Ľ... —á–Ķ—Ä–Ķ–∑ –ľ–į–ľ—É –ď—Ä–ł—ą–ł ‚ÄĒ –∂–Ķ–Ĺ—Č–ł–Ĺ—É —ā–į–ļ–ĺ–Ļ –∂–Ķ —ā—Ź–∂–Ķ–Ľ–ĺ–Ļ –Ĺ–į—Ä—É–∂–Ĺ–ĺ—Ā—ā–ł, –ļ–į–ļ –ł –Ķ—Ď —Ā—č–Ĺ. –ě–Ĺ–į –≤—Ā—ā–į–≤–į–Ľ–į –Ĺ–į –Ņ–ĺ—Ä–ĺ–≥–Ķ —ā–ĺ–Ļ –∑–Ľ–ĺ–Ņ–ĺ–Ľ—É—á–Ĺ–ĺ–Ļ –ļ–≤–į—Ä—ā–ł—Ä—č ‚ÄĒ –Ķ—Ď –ļ–≤–į—Ä—ā–ł—Ä—č ‚ÄĒ –ł –Ľ–Ķ–Ĺ–ł–≤–ĺ –∑–į—Ź–≤–Ľ—Ź–Ľ–į, —á—ā–ĺ –Ī–Ķ–∑ –ď—Ä–ł—ą–ł –Ĺ–ł—á–Ķ–≥–ĺ –Ĺ–Ķ –ľ–ĺ–∂–Ķ—ā –Ĺ–ł–ļ–ĺ–ľ—É –ī–į—ā—Ć, –Ņ–ĺ—Ā–Ľ–Ķ —á–Ķ–≥–ĺ –≤–ł–ī–į–≤—ą–į—Ź –≤–ł–ī—č –ī–≤–Ķ—Ä—Ć –∑–į—Ö–Ľ–ĺ–Ņ—č–≤–į–Ľ–į—Ā—Ć —É –ľ–Ķ–Ĺ—Ź –Ņ–Ķ—Ä–Ķ–ī –Ĺ–ĺ—Ā–ĺ–ľ. –£–Ľ—É—á–į—Ź –ľ–ĺ–ľ–Ķ–Ĺ—ā—č, –ļ–ĺ–≥–ī–į –ď—Ä–ł—ą–ł –Ĺ–Ķ –Ī—č–Ľ–ĺ –ī–ĺ–ľ–į, —Ź –Ĺ–Ķ—Ā–ļ–ĺ–Ľ—Ć–ļ–ĺ —Ä–į–∑ –Ņ—Ä–Ķ–ī—Ā—ā–į–≤–į–Ľ –Ņ–Ķ—Ä–Ķ–ī –Ľ–ł—Ü–ĺ–ľ –Ĺ–Ķ–ļ–ĺ–Ľ–Ķ–Ī–ł–ľ–ĺ–Ļ –ľ–į–ľ—č, –ļ–ĺ—ā–ĺ—Ä–į—Ź –ļ–į–∂–ī—č–Ļ —Ä–į–∑ –ĺ–ļ–į–∑—č–≤–į–Ľ–į –ľ–Ĺ–Ķ —ā–ĺ—ā –∂–Ķ –Ņ—Ä–ł—Ď–ľ. –Ě–į–ļ–ĺ–Ĺ–Ķ—Ü —Ā–Ķ—Ä–ī—Ü–Ķ —Ā—É—Ä–ĺ–≤–ĺ–Ļ –∂–Ķ–Ĺ—Č–ł–Ĺ—č —Ā–ľ—Ź–≥—á–ł–Ľ–ĺ—Ā—Ć, –ł –ľ–ĺ—Ź –≥–ł—ā–į—Ä–į –Ņ–ĺ–ļ–į–∑–į–Ľ–į —Ā–≤–ĺ–ł –ļ–ĺ—Ä–ł—á–Ĺ–Ķ–≤–ĺ-–∑–ĺ–Ľ–ĺ—ā–ł—Ā—ā—č–Ķ –Ī–ĺ–ļ–į –ł–∑ —ā–Ķ–ľ–Ĺ–ĺ—ā—č –Ņ—Ä–ł—Ö–ĺ–∂–Ķ–Ļ, –ł –Ĺ–Ķ–Ī—Ä–Ķ–∂–Ĺ—č–ľ –ī–≤–ł–∂–Ķ–Ĺ–ł–Ķ–ľ –Ī—č–Ľ–į —Ā—É–Ĺ—É—ā–į –ľ–Ĺ–Ķ —á–Ķ—Ä–Ķ–∑ –ī–≤–Ķ—Ä–Ĺ–ĺ–Ļ –Ņ—Ä–ĺ—Ď–ľ. –Į –Ī—č–Ľ –Ņ—Ä–ĺ—Č–Ķ–Ĺ! –ź –ľ–ĺ–∂–Ķ—ā –Ņ—Ä–ĺ—Ā—ā–ĺ –∑–į–Ī—č—ā. –ź –ľ–ĺ–∂–Ķ—ā –Ņ—Ä–ĺ—Ā—ā–ĺ –ď—Ä–ł—ą–į –ĺ–Ņ—Ź—ā—Ć —Ā–Ķ–Ľ... –ė–Ľ–ł ‚ÄĒ –ļ—ā–ĺ –∑–Ĺ–į–Ķ—ā? ‚ÄĒ —Ź –Ī—č–Ľ –Ņ—Ä–ĺ—Č–Ķ–Ĺ –ļ–Ķ–ľ-—ā–ĺ —Ā–≤—č—ą–Ķ. –Ě–Ķ —á—É–≤—Ā—ā–≤—É—Ź –Ņ–ĺ–ī —Ā–ĺ–Ī–ĺ–Ļ —Ā—ā—É–Ņ–Ķ–Ĺ–Ķ–Ļ –Ņ–į—Ä–į–ī–Ĺ–ĺ–Ļ, –Ī—É–ī—ā–ĺ —Ā–į–ľ –Ī—č–Ľ —Ā–ī–Ķ–Ľ–į–Ĺ –ł–∑ —á–Ķ–≥–ĺ-—ā–ĺ –Ĺ–Ķ–≤–Ķ—Ā–ĺ–ľ–ĺ–≥–ĺ, —Ź –≤—č–Ņ–ĺ—Ä—Ö–Ĺ—É–Ľ –Ĺ–į –≤–ĺ–Ľ—é, –≤—Ā–Ķ –Ķ—Č–Ķ –ĺ—Č—É—Č–į—Ź —Ü–į—Ä–į–Ņ–į–Ĺ—Ć–Ķ –ļ–ĺ–≥—ā–Ķ–Ļ —É —Ā–Ķ–Ī—Ź –∑–į —Ā–Ņ–ł–Ĺ–ĺ–Ļ‚Ķ
¬ę–ö–į–Ĺ–į–Ķ—ā –Ņ—Ď—Ā –Ĺ–į—Ā–į–ī–ļ—É –Ľ–Ķ–≤–ł—Ä—É—Ź...¬Ľ. –í—Ä–ĺ–ī–Ķ —Ā–Ľ–ĺ–≤–į –∑–Ĺ–į–ļ–ĺ–ľ—č–Ķ, –į –Ĺ–ł—á–Ķ–≥–ĺ –Ĺ–Ķ –Ņ–ĺ–Ĺ—Ź—ā–Ĺ–ĺ‚Ķ –Į —É–∂–Ķ –Ĺ–Ķ –Ņ–ĺ–ľ–Ĺ—é, –ļ—ā–ĺ –ľ–Ķ–Ĺ—Ź —ć—ā–ĺ–Ļ –Ņ–Ķ—Ā–Ĺ–Ķ –Ĺ–į—É—á–ł–Ľ.